Другие файлы cookie можно настроить.
«На самом деле,
я по-прежнему была здесь»
О книге Арнхильд Лаувенг
«Завтра я всегда бывала львом»
с позиции нарративной практики

Арнхильд Лаувенг, автор и героиня книги «Завтра я всегда бывала львом», более 10 лет болела шизофренией, прошла через многочисленные госпитализации в закрытые психиатрические больницы, а затем стала клиническим психологом, окончив университет Осло. Мне захотелось написать об этой книге, потому что история, рассказанная в ней, созвучна многим идеям нарративной практики: от отделения проблемы от человека до непреложности существования уникальных эпизодов и альтернативных историй. Мне кажется, эта книга может многое прояснить не только про людей с поставленными диагнозами — и психиатрическими, и в какой-то степени соматическими, — но и про каждого из нас, про наших близких: детей, подростков, пожилых людей, вас и меня. И понять, что нет жесткого «мы» и «они», нет каких-то изолированных точек, а есть спектр, тоновая растяжка, как сказали бы художники. И что многие симптомы — это не что-то «инопланетное», а, по сути, выкрученные до максимума многим из нас знакомые проявления. А если вглядеться еще пристальнее — это действия в ответ на что-то очень непредпочитаемое.
Для Арнхильд знакомство c болезнью начинается в подростковом возрасте. Сначала приходят серость мира и самой себя, ощущение тумана, конфликт между желанием «живой жизни» и стремлением быть «хорошей ученицей», непонимание «а кто есть я?», записи в личном дневнике от третьего лица, а потом и голос Капитана, который сначала просто комментирует ее действия, но вскоре начинает критиковать, приказывать и наказывать. Позже появляются волки-галлюцинации и другие симптомы.
Симптомы как действия в ответ
Огладываясь назад, Арнхильд выделяет несколько смыслов, которые заключали в себе симптомы болезни. И с точки зрения нарративной практики, мы могли бы назвать их действиями в ответ на тяжелые, а иногда непереносимые обстоятельства.
Появление Капитана в виде отдельного голоса, которое рассматривается как симптом, мы можем рассматривать в то же время как действие в ответ на внутренний конфликт. Это помогало снизить напряжение, порожденное непомерными требованиями к себе: «Я переложила свое презрение к самой себе, свою строгость и свои несоразмерно высокие требования к себе самой на Капитана, и Капитан выкрикивал эти слова, тем самым обнажая всю суровость и несправедливость этих требований». Мы как нарративные практики можем предположить, откуда пришли эти требования — из культурно-социального контекста, той среды, в которой жила Арнхильд.
Мы могли бы предложить Арнхильд исследовать голос Капитана, те идеи и требования, которые он предъявляет, с помощью карт экстернализации и деконструкции. Так мы вместе могли бы лучше понять его уловки и повадки, выяснить, какие цели и виды он имеет на будущее Арнхильд и насколько она с ними (не) согласна, а также сформулировать отношение к тому, что он транслировал. Постепенно складывавшееся понимание всех этих вещей в дальнейшем и помогло Арнхильд, по ее словам, отпустить Капитана: «Когда прошло время, и я уже хорошо знала свою историю, узнала, какие требования я предъявляла к себе, чем они были вызваны и какие еще существуют решения и способы с ними справиться, расставание с символами и предупредительной лампочкой Капитана далось мне уже сравнительно просто. Нужно было порвать с прежними привычками и ожиданиями и самой определиться в своем отношении к собственной роли и ответственности, отпустив Капитана».
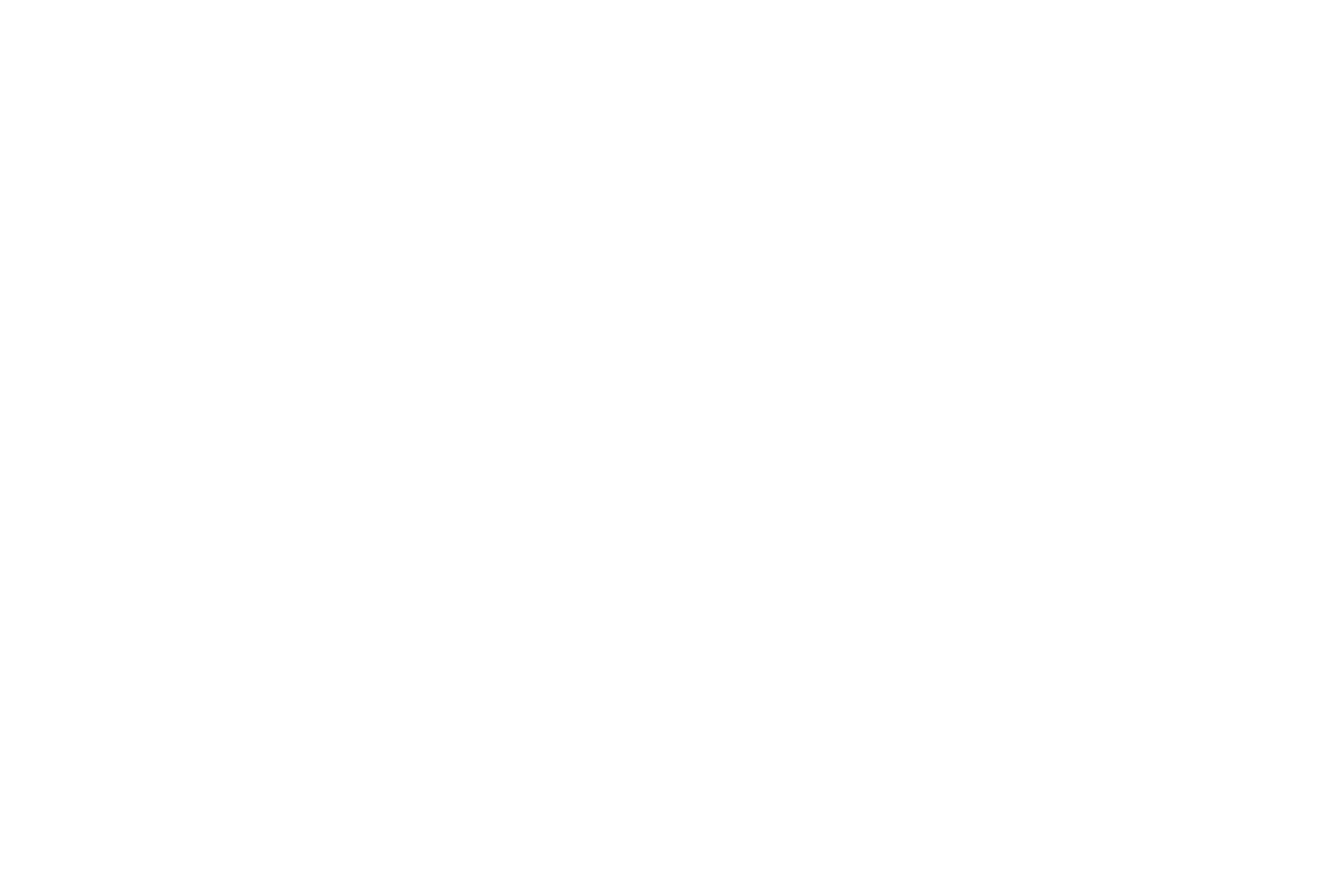
Другим симптомом были символические визуальные галлюцинации, которые появлялись в определенных условиях. Их Арнхильд позже рассматривала как некий содержательный язык. Так, волки «приходили» в ситуациях, связанных со школой, и других, когда Арнхильд «чувствовала себя брошенной „на съедение волкам“». Хищные птицы, нападавшие сверху, появлялись только в отделении, где была жесткая иерархия и Арнхильд чувствовала себя «совсем маленькой». Мы можем рассматривать появление волков или птиц как ответ на невыносимую внешнюю ситуацию и внутреннюю боль, способ выразить и пережить невыразимое, трудно переживаемое. Кажется, что беседы экстернализации и в этом случае могли бы помочь лучше понять тот содержательный язык, на котором говорили симптомы.
Проводя дни одна в пустой палате, Арнхильд ела носки и наполнитель матраса, пытаясь физически заполнить ощущение пустоты внутри, — еще одно действие в ответ. Она могла отказаться от приема лекарств, сохраняя тем самым возможность проявлять хоть в чем-то свою волю: «Она могла бы вызвать дежурного врача, тот прислал бы санитаров, меня бы скрутили и сделали бы мне укол, а принять лекарство, то есть проглотить его, она не могла меня заставить насильно. В то время это было, пожалуй, единственным делом, в котором у меня оставалась свобода выбора». Таким образом, отказ глотать таблетку становился отчаянным способом отстоять ценность свободы.
В этих примерах мы можем увидеть, что проявления, которые воспринимаются единственно как симптомы, помогали Арнхильд сохранять связь с ценностями и с предпочитаемой идентичностью — такой Арнхильд, которая может заботиться о родных и может проявлять свою волю.
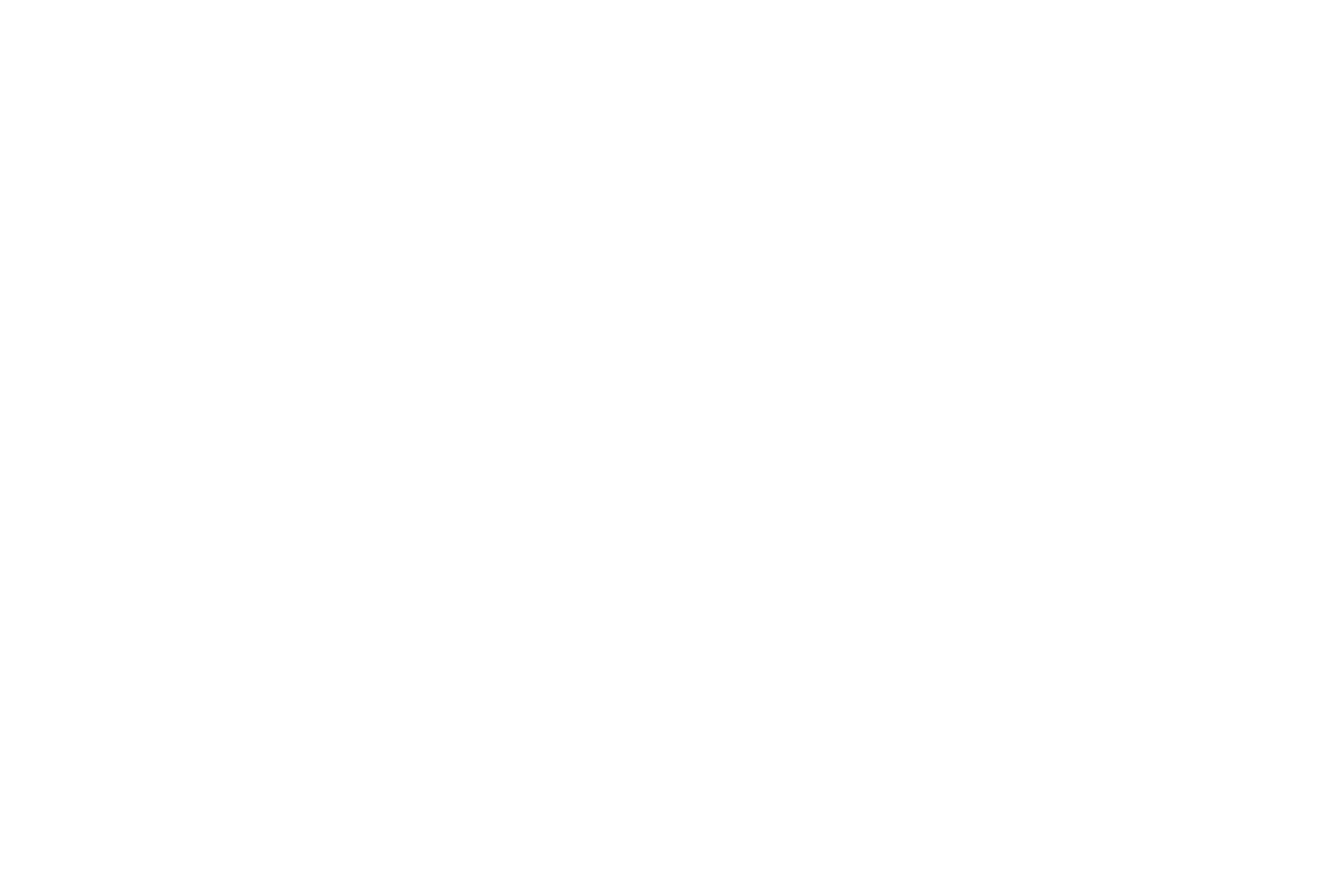
В отделении нельзя сказать «я не хочу на зарядку / убирать комнату / стирать», но можно проявить симптом, и тогда тебе разрешат этого не делать. Нельзя сказать: «Мне страшно, я хочу внимания и чтобы со мной поговорили / посидели рядом», но сиделка точно придет, если у человека случится приступ.
Мы можем заметить, что по своему смыслу, а в некоторых случаях и форме, многие симптомы, которые описывает Арнхильд, не так уж сильно отличаются от тех проявлений, с которыми мы встречаемся в нашей повседневной жизни: у детей, у пожилых и у нас самих. Тех проявлений, которые являются действиями в ответ на наши — общечеловеческие! — потребности и попыткой их удовлетворить.
Называть все вышеперечисленное просто проявлением симптомов шизофрении — слишком поверхностное объяснение. Оно не помогает понять причины, не приводит к улучшению состояния, а главное — делает невидимой саму Арнхильд, ее чувства, опыт и ценности: «Арнхильд слышит голоса (у нее есть и другие симптомы), значит у Арнхильд шизофрения. Почему Арнхильд слышит голоса? Потому что она больна шизофренией. Вот круг и замкнулся. Все остальное остается за его пределами, из этого круга нельзя ничего извлечь, он не позволяет вникнуть во что-то глубже. Между тем как раз и требуется углубленное понимание».
Такое углубленное понимание становится возможным, только если видеть за диагнозом самого человека, уважать и признавать его личный опыт, ценности и экспертность в своей жизни. Арнхильд подчеркивает, что только сам человек может определить, что означает тот или иной симптом в той или иной ситуации, и что толкование симптома не принесет пользы, если это произойдет сильно рано, когда психика человека еще не будет готова к этому осознанию.
«Важной частью моего лечение было то, что оно давало мне пространство, чтобы понять свои симптомы и дозреть до того момента, когда образы и чувства обретут словесное выражение, перестав быть непонятной картинкой. Другая, столь же важная часть лечения заключалась в том, чтобы я поняла мир и свое место в мире».
Что помогало отвечать болезни и вновь возвращаться к себе?
Присутствие этой идентичности и ее способность проявляться даже сквозь проблемную историю болезни иллюстрирует и эпизод об «апельсиновой мученице». Однажды между Арнхильд и сиделкой случился спор о том, является ли апельсин цитрусом. Сиделка утверждала, что цитрусовые — это только лимоны, что следует из их названия на норвежском — «цитрон». Арнхильд же настаивала, что к цитрусовым относится множество фруктов, включая апельсины, мандарины, грейпфруты и т.д. В семье Арнхильд было принято проверять факты по энциклопедии. Она объявила сиделке, что собирается свериться со словарем, и направилась к книжной полке. Похоже, той самой идентичности Арнхильд, которая задавалась вопросами грамматики, было не менее важно быть точной в вопросах фактов и языка. Проводя который месяц в больнице с диагнозом «шизофрения», Арнхильд по-прежнему оставалась той собой, для которой такие детали принципиальны. Однако сиделка не замечала в Арнхильд эту идентичность, а замечала болезнь. Она нажала тревожную кнопку и рассказала прибывшей подмоге, будто бы пациентка собиралась добраться до лампочки, чтобы разбить ее и причинить себе вред. Арнхильд попыталась объяснить, что хотела лишь достать словарь, но ее никто не стал слушать, ведь она уже не раз разбивала лампочки. Ее схватили и потащили из комнаты — и неудивительно, что злость и отчаяние подговорили Арнхильд усиленно обороняться. Ее вновь не услышали, ее предпочитаемую идентичность вновь не заметили, увидев в ней снова лишь «пациентку с шизофренией». Остаток выходных она провела в изоляторе.
Что же помогало Арнхильд снижать влияние болезни, замечать альтернативные истории и укреплять связь со своими предпочитаемыми идентичностями?

Это был санитар, по совместительству студент-журналист, который научил Арнхильд признакам хорошей новости. Когда начинался психоз, он говорил: «Давай-ка, Арнхильд, назови мне признаки хорошей новости» — и не отставал, пока та не начинала перечислять, постепенно возвращаясь к себе.
Это была сиделка, несмотря на запрет говорившая с Арнхильд в изоляторе. И другой санитар-спортсмен, который выходил с ней на прогулки, не боясь побега. А если Арнхильд пыталась убежать, он набирал темп и бежал рядом, продолжая беседу.
И это были мама и сестра, которые не переставали верить в Арнхильд. Однажды Арнхильд отпустили в гости домой. Маму предупредили, что нужно подготовить картонную посуду — стеклянную Арнхильд разобьет, чтобы причинить себе вред. Что же сделала мама?
Маме не раз приходилось видеть, как я била чашки. Она знала, как молниеносно я способна это проделать и что в случае чего никто не успеет меня вовремя остановить. И все же она выставила на стол свои розовые чашечки с полным доверием ко мне, не раз уже доказывавшей, что моим рукам вообще нельзя доверить никакую чашку. И я, естественно, их не разбила. Естественно, я не подвела маму и не обманула ее доверие. Чашечки и сервированный стол громко говорили, как она мне доверяет:
„Ты моя дочка, Арнхильд. Ты по-прежнему ценишь красивые вещи, бережно относишься к тому, чем дорожит твоя семья, к ее традициям и к таким важным вещам, как красота. Ты никогда не можешь дойти до такого сумасшествия, чтобы перебить красивые и ценные вещи, и никогда болезнь не овладеет тобой настолько, чтобы ты перестала ценить привычную тебе с детства красоту. Здесь, дома, ты не пациентка с диагнозом шизофрения, здесь ты Арнхильд“».
«Остаток вечера и ночь я вела себя спокойно и обошлась без успокоительных лекарств. И хотя я совершенно ясно сознавала, в какой хаос превратилась моя жизнь, и хотя мной по-прежнему владело отчаяние, и я чувствовала себя очень несчастной как при мысли, что я еще жива, так и при мысли, что чуть не умерла, я все же сумела как-то взять себя в руки и вести себя вполне прилично. Со мной обошлись вежливо и уважительно. Меня выслушали и отнеслись ко мне серьезно. Со мной обращались как с человеком, с которым можно разговаривать и договариваться о чем-то».
«„Недостаточная мотивация“ — говорили иногда помощники, словно все дело было в моих недостатках, и меня никак невозможно было мотивировать из-за того, что у меня полностью отсутствовала какая-то мотивация. Мотивации у меня как раз было хоть отбавляй, но беда в том, что меня интересовало не все, что угодно. Я не стремлюсь отправиться на Северный полюс, я не мечтаю стать знаменитой пианисткой, и я не хотела учиться уживаться со своими симптомами, зато я хотела стать психологом. Поскольку последнее было совершенно недостижимо и нереалистично, этот план был тотчас же отвергнут помощниками из моего окружения, потому что их он не мотивировал, и мы продолжали двигаться согласно их плану. То есть двигались они, я же оставалась почти без движения».
Когда человеку отказывают в авторстве и экспертности в своей жизни, принуждая делать то, что ему неважно, неинтересно, никак не перекликается с его ценностями и предпочитаемой историей, нормальным ответом становится нежелание это делать. Потому что очень сложно, а главное бессмысленно делать что-то на ландшафте действий, когда это никак не соединено с личным ландшафтом смыслов. И бездействуя или выполняя задачу вполсилы, человек, на самом деле, защищает свое право выбирать подходящее — и говорить «нет» тому, что не подходит. Так он, возможно, сберегает силы и ресурсы, не желая растрачивать их впустую, на то, что не является для него значимым. Когда же человек делает выбор, чем ему заниматься, из авторской позиции и в этом выборе отражаются его ценности, его деятельность становится естественным продолжением этого выбора, выражением его ценностей на ландшафте действий.
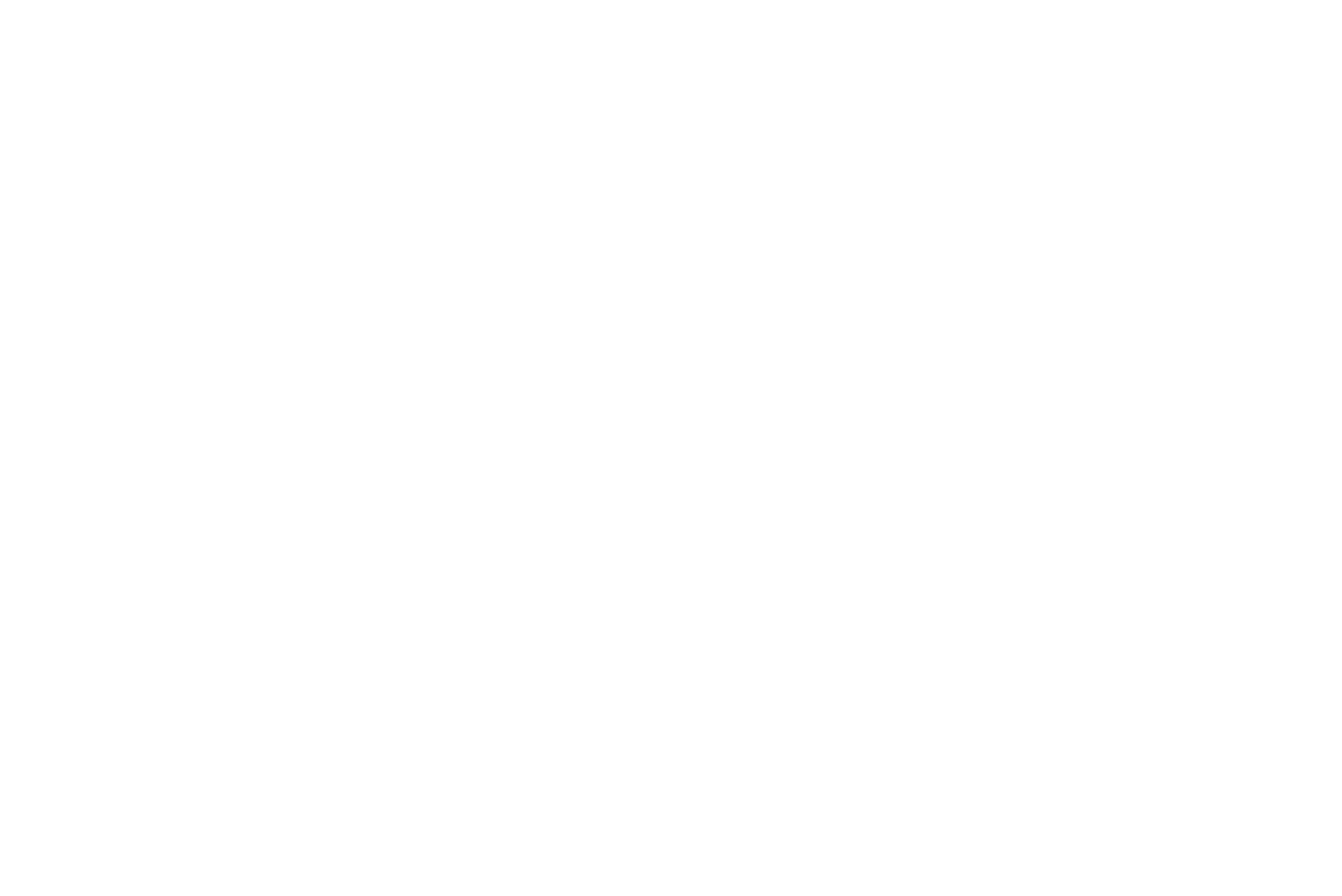
Интересно, что сначала Арнхильд сделала это метафорически, с помощью рисунка. Об этом эпизоде она рассказывает в завершении книги. Однажды Арнхильд сидела в изоляторе десять недель и ощущала совершенную безнадежность. Ей казалось, что не осталось ничего, ради чего стоило бы жить. Один из санитаров, нарушив правила, заговорил с ней и предложил порисовать. Он нарисовал посередине листа большой черный прямоугольник и попросил Арнхильд закончить рисунок. Сначала она не хотела соглашаться, так как подумала, что это будет очередной хитрый тест. Но все же взяла краски и стала рисовать.
«Когда я закончила, весь лист был заполнен красочными формами, и черный прямоугольник превратился в часть единого узора. Я вернула лист санитару, он взглянул на него и улыбнулся мне. „Я испортил тебе весь лист, Арнхильд, — сказал он. — Я нарисовал в самой середине большой черный прямоугольник, так что он все испортил, причем нарисовал тушью, чтобы ты не могла его стереть. Он по-прежнему тут, но ты нарисовала вокруг него узор, и он стал частью узора. Он перестал быть таким безобразным и ничего не разрушает. Он стал естественной частью красочного целого. И тебе ничто не мешает сделать то же самое со своей жизнью“.
Я так и сделала. У меня не белые листы. Четырехугольник по-прежнему там, но он ничего не разрушает. Он стал частью целого, частью моей жизни. На это потребовалось время, но мы справились с задачей. И я использовала все краски, какие только есть в моем наборе».
Так работает авторство — и нарративная практика. Мы не можем изменить произошедшие события и некоторые обстоятельства. Но мы можем вплести их в свою предпочитаемую историю, в которой они станут лишь элементами, частью узора, ритм и смысл которого определяются нашими действиями и ответами, нашими качествами, умениями и навыками, нашими намерениями и ценностями, надеждами и мечтами, принципами и добровольно взятыми на себя обязательствами.

«Если бы мне предложили выбор, я в любом случае предпочла бы ту истину, которая содержит надежду. Просто потому что это полезнее для здоровья и не причиняет боли».
В нарративной практике надежды — одна из интенциональных категорий идентичности. Когда мы расспрашиваем человека о его действиях и связанных с ними намерениях, целях и ценностях, мы часто задаем вопрос: «На что ты надеешься, когда делаешь то, что для тебя важно?». Это один из вопросов микрокарты беседы об идентичности, который позволяет нам глубже исследовать ландшафт смыслов. Он приближает нас к возможности поговорить о принципах человека и его добровольно взятых на себя обязательствах, зачастую тесно связанных с ощущением смысла жизни. Без надежд невозможно соединить действия и смыслы в целостную картину, в предпочитаемую историю жизни, которая охватывает оба ландшафта. Надежды — это, с одной стороны, та ниточка, которая связывает наши действия с нашими мечтами и принципами жизни, подсвечивая смыслы, а с другой стороны, — тот провод, по которому мы получаем энергию для действий, чтобы воплощать то, что для нас важно.
Арнхильд подчеркивает: «... я считаю важным давать людям надежду и веру в то, что для них найдутся какие-то возможности, несмотря на серьезность диагноза и тяжесть болезни».
«Не потому что моя история справедлива для всех и для каждого, — говорит Арнхильд. — Но потому что мой опыт показал мне, что нет никаких „мы“ и „они“. Все мы просто люди. Все мы разные. И все в основе своей одинаковы».

