Управление файлами cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Переосмысление нарративной терапии: исследование билингвизма и магического реализма
Я бы хотела выразить особую благодарность Дэвиду Эпстону за его постоянную и добрую готовность предоставить свои «слух и чутьё к английскому». Его заразительный энтузиазм и любознательность внесли огромный вклад в мои путешествия по этим новым территориям.
Нарративную терапию часто ошибочно воспринимают как направление, которое находит альтернативную историю и делает её единственной вместо доминирующей, уменьшающая влиятельность последней в жизни клиента. В статье автор переосмысляет эту практику, проводя аналогии с билингвизмом и литературным жанром магического реализма и аргументируя важность учёта обеих историй и сохранения взаимодействия между ними. Билингвы обладают умением присутствовать в двух мыслимых мирах одновременно, а авторы жанра магического реализма делают видимым существующее неравенство с помощью слома текущего распределения власти и инверсии различий. Нарративными терапевтами это может быть использовано для анализа своей работы и открытия новых возможностей клиентам. Статья содержит два иллюстративных терапевтических диалога.
Из доступной литературы складывается ощущение, что билингвизм начали исследовать только недавно. В большинстве источников эта тема рассматривается в контексте психологического развития или ограничений, с которыми нужно как-то обойтись (Richard, 1989; Geisinger, 1993; Karamat, 2004). В нескольких исследованиях речь шла об изучении сути феномена и лингвистических преимуществ, которые он может принести (Burck, 2004; Zuleta, 2004; Sommer, 2004).
В этом тексте я рассматриваю присущую билингвизму мультисубъективность и её добавочную ценность для переосмысления нарративных практик. Я делаю это с опорой на инсайдерский опыт собственного билингвизма, начавшегося до эмиграции и продолжившегося после. Сперва я рассматриваю свой опыт колумбийской испано-англоязычной женщины, в настоящее время проживающей в Америке. Я уделяю внимание единственной истории английского языка — колонисткой и империалистической — как лингва франка и его «импорту» в страну третьего мира. Затем я рассказываю о дез-империализации английского, произошедшей во время жизни за рубежом, когда я начала мыслить одновременно в картинах мира английского и испанского.
Понятие мультисубъективности пришло из взаимосвязи между разными языками, тем более существующей в билингвизме. Я уделяю особое внимание проявлению этой взаимосвязи в литературном жанре магического реализма и говорю об этом жанре как способе визуализации мира посредством «гибридности», расформировывающей доминирующие позиции в отношениях между протиборствующими языками или дискурсами.
Я также уделяю внимание тому, как магический реализм воплощает эту гибридность с помощью искусства новелизации реальностей, и особенно с помощью поэтического использования языка. Это затем транслируется на язык возможностей нарративной терапии как искусства новелизации насыщенных и сердечных историй.
Из доступной литературы складывается ощущение, что билингвизм начали исследовать только недавно. В большинстве источников эта тема рассматривается в контексте психологического развития или ограничений, с которыми нужно как-то обойтись (Richard, 1989; Geisinger, 1993; Karamat, 2004). В нескольких исследованиях речь шла об изучении сути феномена и лингвистических преимуществ, которые он может принести (Burck, 2004; Zuleta, 2004; Sommer, 2004).
В этом тексте я рассматриваю присущую билингвизму мультисубъективность и её добавочную ценность для переосмысления нарративных практик. Я делаю это с опорой на инсайдерский опыт собственного билингвизма, начавшегося до эмиграции и продолжившегося после. Сперва я рассматриваю свой опыт колумбийской испано-англоязычной женщины, в настоящее время проживающей в Америке. Я уделяю внимание единственной истории английского языка — колонисткой и империалистической — как лингва франка и его «импорту» в страну третьего мира. Затем я рассказываю о дез-империализации английского, произошедшей во время жизни за рубежом, когда я начала мыслить одновременно в картинах мира английского и испанского.
Понятие мультисубъективности пришло из взаимосвязи между разными языками, тем более существующей в билингвизме. Я уделяю особое внимание проявлению этой взаимосвязи в литературном жанре магического реализма и говорю об этом жанре как способе визуализации мира посредством «гибридности», расформировывающей доминирующие позиции в отношениях между протиборствующими языками или дискурсами.
Я также уделяю внимание тому, как магический реализм воплощает эту гибридность с помощью искусства новелизации реальностей, и особенно с помощью поэтического использования языка. Это затем транслируется на язык возможностей нарративной терапии как искусства новелизации насыщенных и сердечных историй.
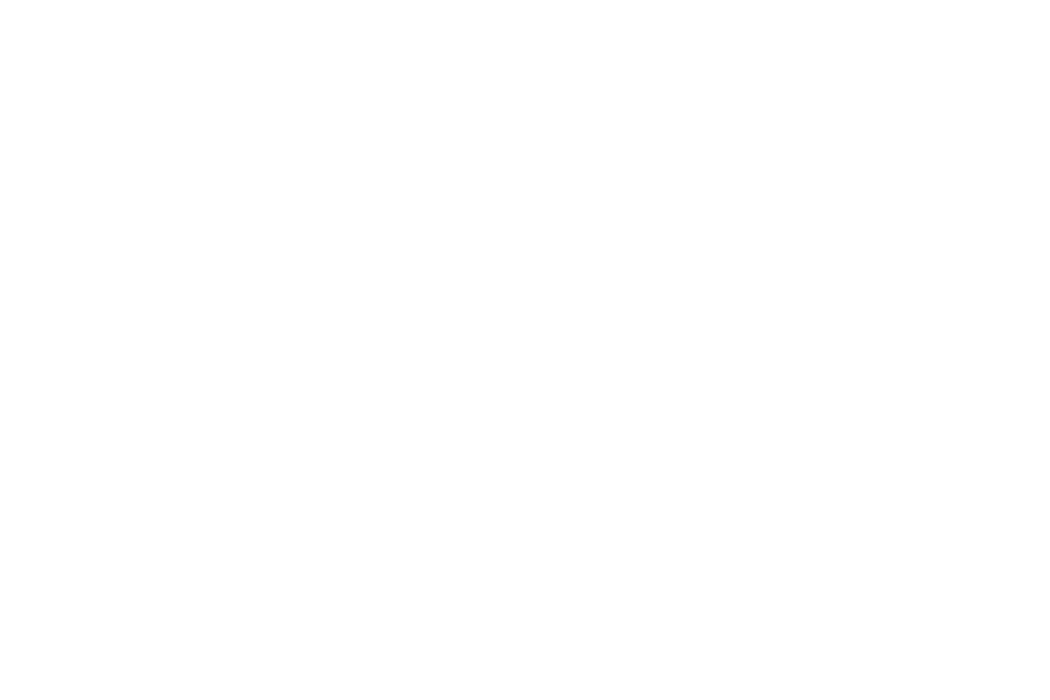
Дез-империализация английского:
от элитарной практики к практике освобождения
от элитарной практики к практике освобождения
Я выросла в стране третьего мира — Колумбии; там я узнала, что билингвизм — гораздо больше, чем просто навык. Я принадлежала к небольшому количеству колумбийцев[1], обладавших привилегией билингвального обучения: мои родители позаботились о том, чтобы мы с моими тремя сёстрами выучили лингва франка того времени — английский[2]. Однако когда я жила в Колумбии среди других колумбийцев, владение английским казалось мне нежелательной практикой. Мне кажется, что в этом на меня влиял скрытый дискурс, согласно которому английский язык является элитарной и империалистической практикой. С 19 века Колумбия жила в поле сильного империалистического влияния Америки, от которой мы взяли английский язык, политику, сферу развлечений, бренды. На изучение второго языка в преимущественно монолингвистической культуре можно посмотреть с двух точек зрения. С практической позиции можно говорить о необходимости развития бедных стран.
С другой стороны, к распространению английского можно относиться как к насильственному[3] вторжению в другие языки и культуры (Boyle, 1997); «словно вьюнок, он устремляется вперёд — к достижению своей миссии порабощения остальных языков» (Pennycook, 1994, p. 73).
В моём доэмигрантском опыте с английским был так сильно связан империалистский дискурс, что на билингвизм я смотрела как на отношения между двумя языками, в которых один из них подавлял другой. Это были отношения сепарации, похожие на сепарацию социальных классов, когда растущая разница в возможностях и доступных вариантах разводит их ещё дальше друг от друга. Я эмигрировала в США, когда мне было около 25 лет, и с тех пор представление о подавлении медленно исчезало. После эмиграции общение на английском было не элементом принадлежности к социальному классу, но элементом жизни в целом. Пройдя процесс аккультурации, я начала по-другому смотреть на английский. Он стал языком, придававшим очертания моему повседневному опыту и в свою очередь очерченным им; языком, с помощью которого я открывала новый мир.
Благодаря знанию о тесном сплетении языка и культуры, о том, что язык «пропитан культурой» (Burck, 2004) в новой культуре, где английский вступал в отношения с испанским, стало возможным посмотреть на это с другой стороны. Вместо подавления один другого они сплетались, словно «возлюбленные, пытающиеся слиться воедино, получить тот редкий опыт, когда каждый будто оказывается внутри другого» (D. Epston, личные беседы, May 21, 2007).
Отойдя от единственного взгляда на английский как на империалистическую практику, я смогла очароваться возможностью мыслить одновременно на двух языках — испанском и английском. Иронично, но взгляд из картины мира, очерченной английским, позволил мне увидеть ограниченность определённых частей моей жизни испанским, освобождая меня от них. Мой английский «взгляд» сделал некоторые аспекты испанского чуждыми. Взаимодействие двух языков позволило мне познакомиться с теми аспектами моей жизни, которые в противном случае остались бы незамеченными.
С другой стороны, к распространению английского можно относиться как к насильственному[3] вторжению в другие языки и культуры (Boyle, 1997); «словно вьюнок, он устремляется вперёд — к достижению своей миссии порабощения остальных языков» (Pennycook, 1994, p. 73).
В моём доэмигрантском опыте с английским был так сильно связан империалистский дискурс, что на билингвизм я смотрела как на отношения между двумя языками, в которых один из них подавлял другой. Это были отношения сепарации, похожие на сепарацию социальных классов, когда растущая разница в возможностях и доступных вариантах разводит их ещё дальше друг от друга. Я эмигрировала в США, когда мне было около 25 лет, и с тех пор представление о подавлении медленно исчезало. После эмиграции общение на английском было не элементом принадлежности к социальному классу, но элементом жизни в целом. Пройдя процесс аккультурации, я начала по-другому смотреть на английский. Он стал языком, придававшим очертания моему повседневному опыту и в свою очередь очерченным им; языком, с помощью которого я открывала новый мир.
Благодаря знанию о тесном сплетении языка и культуры, о том, что язык «пропитан культурой» (Burck, 2004) в новой культуре, где английский вступал в отношения с испанским, стало возможным посмотреть на это с другой стороны. Вместо подавления один другого они сплетались, словно «возлюбленные, пытающиеся слиться воедино, получить тот редкий опыт, когда каждый будто оказывается внутри другого» (D. Epston, личные беседы, May 21, 2007).
Отойдя от единственного взгляда на английский как на империалистическую практику, я смогла очароваться возможностью мыслить одновременно на двух языках — испанском и английском. Иронично, но взгляд из картины мира, очерченной английским, позволил мне увидеть ограниченность определённых частей моей жизни испанским, освобождая меня от них. Мой английский «взгляд» сделал некоторые аспекты испанского чуждыми. Взаимодействие двух языков позволило мне познакомиться с теми аспектами моей жизни, которые в противном случае остались бы незамеченными.
Согласно отчёту, опубликованному Colombian Department of Education (2006), в Колумбии только 1% населения имеет средний уровень владения английским, и только 0,8% - высокий. Эти 1% и 0,8% относятся к элите, имеющей финансовые средства для обучения, в котором английский преподаётся как «родной» язык. Как указано в этом отчёте, билингвизм оказывается скорее особенностью класса, чем образования. Tollesfon (1991) утверждал, что под влиянием созданных нами политических стратегий языковые компетенции оказываются барьером для устройства на работу, образования и экономического благополучия.
Gilbert Ansre (1979) описывал лингвистический империализм как ситуацию, в которой зарубежный язык начинает доминировать над родным, даже когда должен быть использован доминантный (как в транзакциях по более сложным культурным, экономическим, политическим, военным, социальным и коммуникационным вопросам). Braj Kachru (1986) предупреждает нас об опасности централизованной лингвистической власти, когда в руках пользователей одной языковой группы сосредотачивается контроль и возможность влиять на интернациональную власть.
Phillipson (1992) описывает это насильственное вторжение как лингвистический империализм, менее деспотичный по сравнению с другими механизмами контроля. По мнению этого автора лингвистический империализм, доставшийся странам третьего мира от колониальных времён, обслуживает интересы стран-получателей и доноров, таким образом способствуя сохранению Юго-северного неравенства.
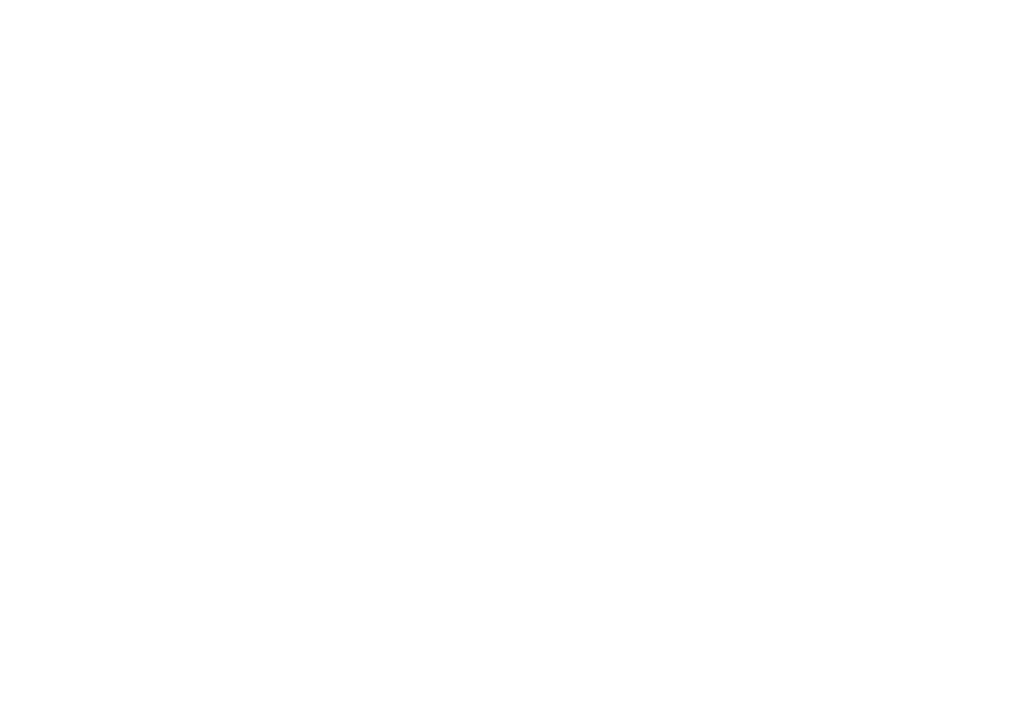
Билингвизм магического реалиста
В процессе аккультурации в Америке я заметила, что билингвизм скорее открывает в моей жизни пространство для множественных картин мира, чем даёт возможность жить в одной, но выраженной на двух языках. Английский начал формировать собственную жизнь рядом с жизнью моего испанского — создавать свой словарь, политику, практики. Билингвизм предлагал открытость сознания: «Опираясь на два или более заданных культурой языка, каждый из которых имеет свою грамматику, правила и стандарты, билингвальность распахивает ворота в жизнь за пределами любой конкретной монолингвальности, в пространство представления и освоения мира полилингвальности» (Polanco&Epston, 2009).
Sommer (2004) писала, что «Если известную вещь можно обозначить больше, чем одним словом, то этот избыток показывает, что ни одно слово не может владеть этой вещью или быть ею» (p. Xix). Она продолжает: «Слова недостаточны и не остаются неизменными. Они перемещаются в соседние языковые области, теряются в переводе, прогибаются под иностранным вторжением и таким образом не могут обозначать того, о чём говорят» (p. Xix).
Я вижу это так, что когда сам мир мыслится на разных языках, он становится местом плюрализма, где каждый может выбрать собственную идентичность. Таким образом билингвизм показал мне новые возможности для обретения чувства дома. Билингвизм чётко иллюстрирует диалогические отношения между языками; в них не просто становятся видны границы между одним языком и смежными, альтернативными или противостоящими. В нём становится возможным вместо различий смотреть на пространство между — пространство, в котором возникает диалог между языками, перевод одного на другой.
Перевод появляется там, где языки пересекаются и перепорождают сами себя. Это происходит, когда мы рассматриваем перевод как «преобразование одной картины мира в другую (текста в текст), а не просто перенесение конкретной картины мира из одного языка в другой» (Scott, p. 5). Это означает также и то, что перевод — не про ограничение одного языка другим, но про высвобождение (Scott, 2000). Благодаря литературе магического реализма[4] становится видно, какие диалоги могут происходить между языками посредством такого перевода.
Моё знакомство с этим литературным жанром состоялось через работы Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя, в 1982 году получившего Нобелевскую премию. К его романам я обратилась в период, когда чувствовала наибольшую тоску по своей стране. В них я заметила определённый резонанс со своей нарративной терапией. Примерно тогда же я переводила некоторые тексты Дэвида Эпстона на испанский. Дэвиду показалось интересным, как романы Гарсиа Маркеса помогали мне в поисках испанских слов, позволявших лучше передать его новозеландский словарь. Благодаря интересу Дэвида я отнеслась к этому ещё внимательнее и решила глубже исследовать литературный жанр магического реализма в произведениях Габриэля Гарсиа Маркеса. Этот резонанс между жанром и нарративной терапией (Speedy, 2008) не только стал более заметным, но я увидела в нём полезную аналогию для лучшего понимания взаимосвязи языков, а значит, и нарративов.
Мне было особенно интересно, что магический реализм не просто делает видимым неравенство реальностей, когда одна сосредотачивает в себе власть и подчиняет другую, но вместе с тем реорганизует и переизобретает их. Это может оказаться очень полезным для нарративной терапии, в разговорах об отношениях между доминантными историями и имплицитно скрытых в них подчинённых или альтернативных историй. Авторы в жанре магического реализма демонстрируют эти неравенства с помощью понятия «гибридности». Границы между магическим и реальным размываются, и в образующемся пространстве возникает гибрид. Авторы не жертвуют чем-то одним ради другого, не ограничиваются инверсией доминантного и подчинённого, но создают третью категорию, в которой рассматривается новое образование. Это происходит и в билингвизме, когда возникает мультисубъективность. В моём случае этой новой категорией стал спанглиш (Morales, 2002), появляющийся из сплава английского и испанского.
Понятие гибрид-ности поддерживает идею гетерогенной реальности с трансгрессивными и противоречивыми характеристиками. Хотя в магическом реализме гибрид переворачивает систему бинарных оппозиций вверх ногами[5], он делает это временно, чтобы поставить под вопрос авторитарные определения, существующие в каждом языке. В свою очередь это даёт бесправным голос, позволяющий не только восстать против тирании, но и дать ей ответ. Faris (2004) пишет, что магический реализм сделал значительный вклад в трансформацию и содержание доминантной области реализма в западной культуре. Он бросил вызов репрезентации западной культуры как деколонизирующего агента, который реорганизует доминантные формы социальных классов, гендера, расы и т. д. Bowers (2004) обращает наше внимание на оксюморон: гибрид «магический реализм» высвечивает и ставит под вопрос магическое и реальное через их совмещение.
Sommer (2004) писала, что «Если известную вещь можно обозначить больше, чем одним словом, то этот избыток показывает, что ни одно слово не может владеть этой вещью или быть ею» (p. Xix). Она продолжает: «Слова недостаточны и не остаются неизменными. Они перемещаются в соседние языковые области, теряются в переводе, прогибаются под иностранным вторжением и таким образом не могут обозначать того, о чём говорят» (p. Xix).
Я вижу это так, что когда сам мир мыслится на разных языках, он становится местом плюрализма, где каждый может выбрать собственную идентичность. Таким образом билингвизм показал мне новые возможности для обретения чувства дома. Билингвизм чётко иллюстрирует диалогические отношения между языками; в них не просто становятся видны границы между одним языком и смежными, альтернативными или противостоящими. В нём становится возможным вместо различий смотреть на пространство между — пространство, в котором возникает диалог между языками, перевод одного на другой.
Перевод появляется там, где языки пересекаются и перепорождают сами себя. Это происходит, когда мы рассматриваем перевод как «преобразование одной картины мира в другую (текста в текст), а не просто перенесение конкретной картины мира из одного языка в другой» (Scott, p. 5). Это означает также и то, что перевод — не про ограничение одного языка другим, но про высвобождение (Scott, 2000). Благодаря литературе магического реализма[4] становится видно, какие диалоги могут происходить между языками посредством такого перевода.
Моё знакомство с этим литературным жанром состоялось через работы Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийского писателя, в 1982 году получившего Нобелевскую премию. К его романам я обратилась в период, когда чувствовала наибольшую тоску по своей стране. В них я заметила определённый резонанс со своей нарративной терапией. Примерно тогда же я переводила некоторые тексты Дэвида Эпстона на испанский. Дэвиду показалось интересным, как романы Гарсиа Маркеса помогали мне в поисках испанских слов, позволявших лучше передать его новозеландский словарь. Благодаря интересу Дэвида я отнеслась к этому ещё внимательнее и решила глубже исследовать литературный жанр магического реализма в произведениях Габриэля Гарсиа Маркеса. Этот резонанс между жанром и нарративной терапией (Speedy, 2008) не только стал более заметным, но я увидела в нём полезную аналогию для лучшего понимания взаимосвязи языков, а значит, и нарративов.
Мне было особенно интересно, что магический реализм не просто делает видимым неравенство реальностей, когда одна сосредотачивает в себе власть и подчиняет другую, но вместе с тем реорганизует и переизобретает их. Это может оказаться очень полезным для нарративной терапии, в разговорах об отношениях между доминантными историями и имплицитно скрытых в них подчинённых или альтернативных историй. Авторы в жанре магического реализма демонстрируют эти неравенства с помощью понятия «гибридности». Границы между магическим и реальным размываются, и в образующемся пространстве возникает гибрид. Авторы не жертвуют чем-то одним ради другого, не ограничиваются инверсией доминантного и подчинённого, но создают третью категорию, в которой рассматривается новое образование. Это происходит и в билингвизме, когда возникает мультисубъективность. В моём случае этой новой категорией стал спанглиш (Morales, 2002), появляющийся из сплава английского и испанского.
Понятие гибрид-ности поддерживает идею гетерогенной реальности с трансгрессивными и противоречивыми характеристиками. Хотя в магическом реализме гибрид переворачивает систему бинарных оппозиций вверх ногами[5], он делает это временно, чтобы поставить под вопрос авторитарные определения, существующие в каждом языке. В свою очередь это даёт бесправным голос, позволяющий не только восстать против тирании, но и дать ей ответ. Faris (2004) пишет, что магический реализм сделал значительный вклад в трансформацию и содержание доминантной области реализма в западной культуре. Он бросил вызов репрезентации западной культуры как деколонизирующего агента, который реорганизует доминантные формы социальных классов, гендера, расы и т. д. Bowers (2004) обращает наше внимание на оксюморон: гибрид «магический реализм» высвечивает и ставит под вопрос магическое и реальное через их совмещение.
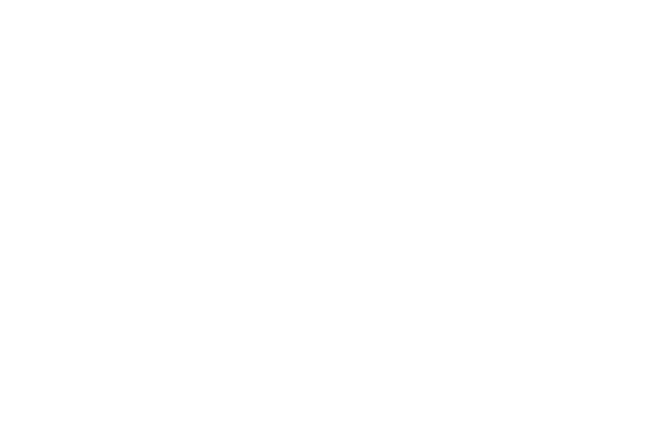
В магическом реализме магическое представляется как часть обычной реальности, вырастающая из неё и трансгрессирующая сквозь их различия. Оно размывает однозначное различение чего-либо как магического или реального. Как пишет Bowers (2004), магическое показывает чудеса, происходящие в жизни в экстраординарных обстоятельствах и рассматривающиеся как действительно происходившие, какими бы выдающимися они не казались. Эта экстраординарность не объясняется и не учитывается рациональной наукой. Как писали Parkinson Zamora&Faris (1995) магическое «..не создаёт воображаемые миры, в которых мы можем укрыться от повседневной реальности». Не является оно и трюковой магией, создающей иллюзию, что что-то произошло. Вместо этого оно исследует «...реальности характеров или сообществ, находящихся за пределами объективистского мэйнстрима нашей культуры» (Parkinson Zamora & Faris, 1995, p. 121).
Реализм в магическом реализме оказывается за пределами рассмотрения современной реальности как объективной правды. Принимая, что существует надёжная связь между нашими чувствами или памятью и миром, мы обнаруживаем нечто, не принадлежащее реальности. Реализм в магическом реализме достигается через создание — создание, воплощающееся в искусстве новелизации жизни. Это искусство включает в себя средства, с помощью которых оно, «работая с сырым материалом жизни, снимает [противоречия], высвобождая воображаемое от фактуальности, и по-новому упорядочивает их» (Grand, 1970, p. 15). Эпиграф Габриэля Гарсиа Маркеса (Bell-Villada, 2004) к его автобиографии «Жить, чтобы рассказывать о жизни», я считаю одним из образцов этого искусства: «Жизнь — это не само прожитое, но то, что человек об этом помнит и как именно вспоминает, чтобы об этом рассказать». В пересказе жизни она изобретается заново.
Магический реализм полагается на знакомые конструкции «только чтобы довести то, что принимается как реальное, до его пределов. Это связывает его с реализмом, при этом оставляя формой повествования, отдалённой от него» (Bowers, 2004). Это доведение до пределов становится возможным благодаря гибридности и таким приёмам, как остранение и дефокализация обычных или привычных языков и образов, часто навязанных авторитарными требованиями социальных дискурсов. Через гибридность становится видимой напряжённая динамика сохраняемых оппозиционных различий двух дискурсивных систем — реальности и фантазии. При первом же остранении знакомое превращается в неизведанное, а то, что было в центре внимания, оказывается деформированным.
Использование языка в магическом реализме оказывается ключевым моментом, позволяющим с помощью гибрида осуществить остранение и дефокализацию языков. Как для билингвов, для авторов жанра магического реализма язык представляется идиосинкразической подделкой. В нём заключён поэтический резонанс, который, каким-то образом перемешивая времена, места и идентичности, переструктурирует их и достигает определённого выразительного образа. Это относится и к искусству новелизации реальностей. Магический реализм описывает образы мира как слова, которые произносятся в конкретных обстоятельствах и обладают властью привнести в бытие те события и те позиции, которые они представляют. Из такой новелизации рождается языковая магия воплощённых слов.
Новелизация магического реалиста скорее воплощает реальность, но не отображает её. По Faris (2004) языковая магия превозносит устойчивость намерений и приглашает нас выйти за пределы простой репрезентации. Это становится возможным благодаря игре языков, воплощающих персонажа, в котором трансгрессируют даже условности грамматики и словарей. Язык романа в жанре магического реализма исследует и возможности, и ограничения языков, так что любые слова в романе лишаются своей власти.
Как утверждал Рушди (Harrison, 1992): «Вы должны использовать язык так, чтобы мог существовать Бог — давая возможность дивному быть столь же реальным, как дивану, на котором я сижу». Это игривый язык, который оставляет читателя с пониманием, что мир «ведьм» — это мир, в котором люди действительно живут, и с чувством, что может быть эта картина мира правильна — или будет верной со временем. Это язык, который не копирует окружающую реальность и не оспаривает её, но высвечивает мистику, спрятанную за вещным (Parkinson, Zamora & Faris, 1995).
Искусство новелизации в магическом реализме даёт место воплощающему языку, размывающему границы между жизнью и поэзией. С ним появляется право на создание неологизмов, новых названий для новых мест и идентичностей, которые раньше были привязаны к реальности. Нарратив магического реалиста «...схватывает мистику, спрятанную внутри вещей» (Leal, 1967, p. 234). Как писал Гарсиа Маркес(1997), язык этого нарратива разоблачает тех, кто не помещается в свою собственную “pellejo” [кожу], и потому нуждается в том, чтобы вырваться за нормативные барьеры, уйти “Pedro por su casa” [свободно]. Он же писал (2006), что язык нарратива развенчивает понятие времени, отделяя нас от прежнего опыта и удерживая от возможности снова его пережить.
Искусство новелизации учит нас изобретать новые реальности; оно начинает с рассказывания мощных и выразительных историй, стартовой точкой которых становится не идея или концепция, но простой образ. Для Гарсиа Маркеса (2006) это искусство состояло в том, чтобы взять простое, «настоящее» событие из экстраординарностей повседневной жизни и дав ему словарь, историю, характеры, мифы, следовать по всей истории шаг за шагом, высвечивая по пути новую картину мира.
Реализм в магическом реализме оказывается за пределами рассмотрения современной реальности как объективной правды. Принимая, что существует надёжная связь между нашими чувствами или памятью и миром, мы обнаруживаем нечто, не принадлежащее реальности. Реализм в магическом реализме достигается через создание — создание, воплощающееся в искусстве новелизации жизни. Это искусство включает в себя средства, с помощью которых оно, «работая с сырым материалом жизни, снимает [противоречия], высвобождая воображаемое от фактуальности, и по-новому упорядочивает их» (Grand, 1970, p. 15). Эпиграф Габриэля Гарсиа Маркеса (Bell-Villada, 2004) к его автобиографии «Жить, чтобы рассказывать о жизни», я считаю одним из образцов этого искусства: «Жизнь — это не само прожитое, но то, что человек об этом помнит и как именно вспоминает, чтобы об этом рассказать». В пересказе жизни она изобретается заново.
Магический реализм полагается на знакомые конструкции «только чтобы довести то, что принимается как реальное, до его пределов. Это связывает его с реализмом, при этом оставляя формой повествования, отдалённой от него» (Bowers, 2004). Это доведение до пределов становится возможным благодаря гибридности и таким приёмам, как остранение и дефокализация обычных или привычных языков и образов, часто навязанных авторитарными требованиями социальных дискурсов. Через гибридность становится видимой напряжённая динамика сохраняемых оппозиционных различий двух дискурсивных систем — реальности и фантазии. При первом же остранении знакомое превращается в неизведанное, а то, что было в центре внимания, оказывается деформированным.
Использование языка в магическом реализме оказывается ключевым моментом, позволяющим с помощью гибрида осуществить остранение и дефокализацию языков. Как для билингвов, для авторов жанра магического реализма язык представляется идиосинкразической подделкой. В нём заключён поэтический резонанс, который, каким-то образом перемешивая времена, места и идентичности, переструктурирует их и достигает определённого выразительного образа. Это относится и к искусству новелизации реальностей. Магический реализм описывает образы мира как слова, которые произносятся в конкретных обстоятельствах и обладают властью привнести в бытие те события и те позиции, которые они представляют. Из такой новелизации рождается языковая магия воплощённых слов.
Новелизация магического реалиста скорее воплощает реальность, но не отображает её. По Faris (2004) языковая магия превозносит устойчивость намерений и приглашает нас выйти за пределы простой репрезентации. Это становится возможным благодаря игре языков, воплощающих персонажа, в котором трансгрессируют даже условности грамматики и словарей. Язык романа в жанре магического реализма исследует и возможности, и ограничения языков, так что любые слова в романе лишаются своей власти.
Как утверждал Рушди (Harrison, 1992): «Вы должны использовать язык так, чтобы мог существовать Бог — давая возможность дивному быть столь же реальным, как дивану, на котором я сижу». Это игривый язык, который оставляет читателя с пониманием, что мир «ведьм» — это мир, в котором люди действительно живут, и с чувством, что может быть эта картина мира правильна — или будет верной со временем. Это язык, который не копирует окружающую реальность и не оспаривает её, но высвечивает мистику, спрятанную за вещным (Parkinson, Zamora & Faris, 1995).
Искусство новелизации в магическом реализме даёт место воплощающему языку, размывающему границы между жизнью и поэзией. С ним появляется право на создание неологизмов, новых названий для новых мест и идентичностей, которые раньше были привязаны к реальности. Нарратив магического реалиста «...схватывает мистику, спрятанную внутри вещей» (Leal, 1967, p. 234). Как писал Гарсиа Маркес(1997), язык этого нарратива разоблачает тех, кто не помещается в свою собственную “pellejo” [кожу], и потому нуждается в том, чтобы вырваться за нормативные барьеры, уйти “Pedro por su casa” [свободно]. Он же писал (2006), что язык нарратива развенчивает понятие времени, отделяя нас от прежнего опыта и удерживая от возможности снова его пережить.
Искусство новелизации учит нас изобретать новые реальности; оно начинает с рассказывания мощных и выразительных историй, стартовой точкой которых становится не идея или концепция, но простой образ. Для Гарсиа Маркеса (2006) это искусство состояло в том, чтобы взять простое, «настоящее» событие из экстраординарностей повседневной жизни и дав ему словарь, историю, характеры, мифы, следовать по всей истории шаг за шагом, высвечивая по пути новую картину мира.
Хотя этот жанр не принадлежит никакой конкретной области или критическому подходу, некоторые характеристики позволяют отнести магический реализм к жанру, на который серьёзно повлияли постмодернистские теории феминизма, а также постколониализм. Согласно Faris (2004), термин «магический реализм» изначально был введён в начале двадцатого века для описания неореалистичного стиля в немецком изобразительном искусстве. Позже этот термин стал использоваться для прозы Латинской Америки, а сейчас применяется во всём мире для обозначения современного литературного жанра. Через свои тексты, магические голоса, глубинные традиции и формирующуюся литературу магический реализм дал толчок достаточно серьёзному развитию пост-колониальных культур, создав пространство для культурной работы таких писателей, как Габриэль Гарсиа Маркес, Исабель Альенде, Алехо Карпентьер, Хорхе Луис Борхес, Салман Рушди, Карлос Фуэнтес, Патрик Зюскинд, Милан Кундера, Хуан Рульфо и др.
Инверсия социальных дискурсов в магическом реализме бросает вызов авторитарной позиции одного лингвистического дискурса по отношению к другому похоже на то, как это осуществляется в «карнавальности», описываемой Бахтиным. Однако возникая как временный революционный эпизод, карнавальность создаёт возможность для выплеска классового напряжения (Morson & Emerson, 1990). Она также позволяет новым оппозиционным категориям сосуществовать, не имея фиксированных определений и не претендуя на абсолютную истинность.
Новелизация в нарративной терапии
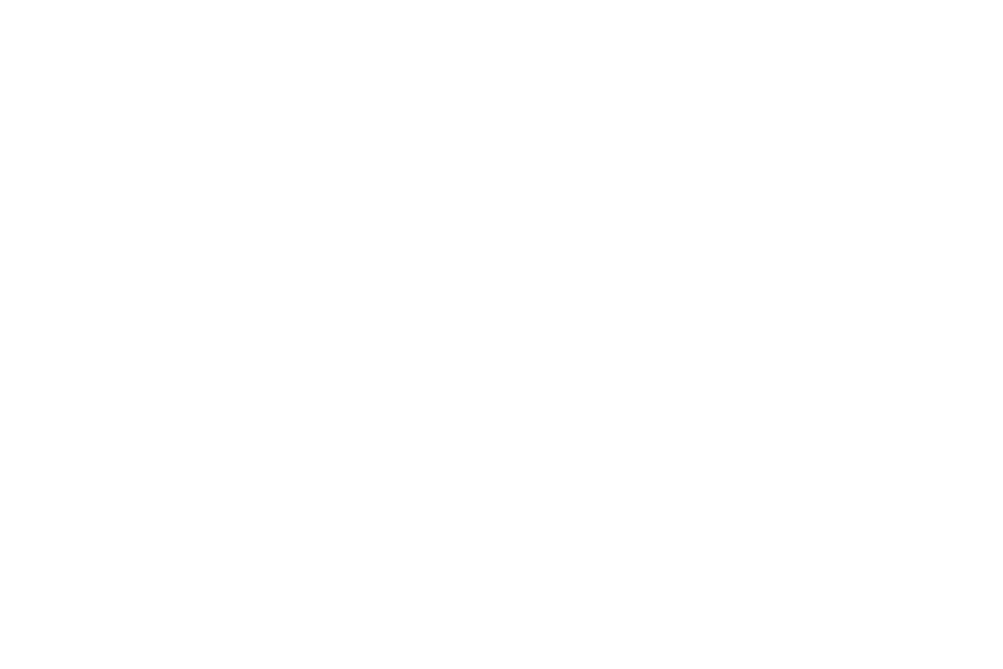
Когда я присутствовала на тренингах по нарративной терапии, где демонстрировалось видео Майкла Уайта или Дэвида Эпстона, чаще да, чем нет аудитория отзывалась об их работе как о душевной и «магической». Их работа настолько экстраординарна, что кажется практически недостижимой. Я помню как на одном из своих воркшопов в Боготе, Колумбия (2008) сам Дэвид ответил на очень похожие слова от женщины в аудитории. Он уточнил, что это не «магические фокусы», но результат «серьёзной работы».
Я стала верить, что магический реализм и билингвизм дают выгодную позицию, в каком-то смысле обеспечивая возможность «изнутри» посмотреть на серьёзную работу Майкла и Дэвида. Я думаю об их корреспондирующем магическом реализме, поэтическом резонансе. Магический реализм и билингвизм помогают нарративным терапевтам пересмотреть свою практику. Эти лингвистический и литературный жанры предлагают теоретическое понимание, которое позволяет нам пристальнее рассмотреть то, что изначально возникло из «магической» серьёзной работы Майкла и продолжилось в поэтической серьёзной работе Дэвида.
«Посмотреть изнутри» для меня стало возможным, когда я занималась переводами некоторых текстов Майкла и Дэвида на испанский. Я лицом к лицу столкнулась с их красноречием, поэтикой и эксцентричностью слов. Их письмо чем-то напоминало стиль романов Гарсиа Маркеса. Поэтическая ценность их работы преобладала над рассказыванием историй о прожитых событиях из жизни людей. Это было что-то большее, чем «простой» (и довольно сложный) интеллектуальный акт сторителлинга.
Их расспрашивание, начинавшееся с того, что казалось простым воспоминанием, влияло на разворачивание человеческого опыта. В самом разговоре становилось возможным задуматься и переосмыслить новые реальности с опорой на истории человека, значимых людей в его жизни, экстраординарных уникальных эпизодов, внешних свидетелей, которые могли бы предложить свой отклик (White&Eptson, 1990, White, 2007). Рассеянный читатель мог увидеть в этих историях репрезентации прожитых жизней. Как переводчик и человек, обладающий инсайдерским опытом, я стала осознавать, что реальности заново конструировались и понимались. Свершающееся в разговоре принадлежало самому диалогу, не относилось к прошлому. События не рассказывались, но полностью пере-проживались внутри новых картин мира.
Более понятным это для меня стало в процессе личных и академических попыток перевода одной из историй Майкла (2007) из его «Карт нарративной практики». Это была история Томаса. У Томаса сохранилось не слишком много воспоминаний из ранних лет, одно из них — суицид матери в его 7 лет. В разговоре он вспомнил один на первый взгляд очень простой эпизод — как они с мамой во время прогулки прошли мимо мёртвой собаки, которую сбила машина. Его мама сказала: «Дети здесь видели уже достаточно плохого» (p. 156). Из этого эпизода, через осторожно сменяющие друг друга вопросы и приглашение внешних свидетелей, родилась новая насыщенная и устойчивая история сердечных и любящих отношений между Томасом и его мамой: «Томас внезапно увидел новые возможности на горизонтах своей жизни, и со временем начал делать шаги к их реализации» (p. 162).
Словари Майкла и Дэвида позволяют очень живо передать чувства, впечатления, картины мира, как это происходит в романах Гарсиа Маркеса. Меня так захватывали их беседы, что казалось — стоит пошевелить рукой, и я смогу их коснуться. Вместо чтения и перевода их работы, я словно перемещалась в неё. Это было так похоже на чтение «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса. Тогда я переместилась в «Макондо», фантастическое место, созданное им с такой реалистичностью, что оно практически стало Колумбией, которую я знаю сейчас и помню по диаспоре.
Иллюстрацией искусства новелизации жизней людей, которым владел Дэвид, может стать одна из многочисленных историй о его работе (2004), история работы с Сашей и её матерью Мари. Саша столкнулась с сильнейшими страхами перед ночным сном в одиночестве. В процессе диалога Дэвид пригласил рассмотреть возможность «переливания мужества» от Мари к дочери. Приглашение было принято, и они конкретизировали это до «переливания без иглы». Дэвид начал расспрашивать о временах, когда Мари удавалось преодолеть собственные страхи — расспрашивал, помогая вспомнить о событии, когда она чувствовала «в теле мужество, возможное к переливанию в тело её дорогой дочери».
Дэвид писал:
Я стала верить, что магический реализм и билингвизм дают выгодную позицию, в каком-то смысле обеспечивая возможность «изнутри» посмотреть на серьёзную работу Майкла и Дэвида. Я думаю об их корреспондирующем магическом реализме, поэтическом резонансе. Магический реализм и билингвизм помогают нарративным терапевтам пересмотреть свою практику. Эти лингвистический и литературный жанры предлагают теоретическое понимание, которое позволяет нам пристальнее рассмотреть то, что изначально возникло из «магической» серьёзной работы Майкла и продолжилось в поэтической серьёзной работе Дэвида.
«Посмотреть изнутри» для меня стало возможным, когда я занималась переводами некоторых текстов Майкла и Дэвида на испанский. Я лицом к лицу столкнулась с их красноречием, поэтикой и эксцентричностью слов. Их письмо чем-то напоминало стиль романов Гарсиа Маркеса. Поэтическая ценность их работы преобладала над рассказыванием историй о прожитых событиях из жизни людей. Это было что-то большее, чем «простой» (и довольно сложный) интеллектуальный акт сторителлинга.
Их расспрашивание, начинавшееся с того, что казалось простым воспоминанием, влияло на разворачивание человеческого опыта. В самом разговоре становилось возможным задуматься и переосмыслить новые реальности с опорой на истории человека, значимых людей в его жизни, экстраординарных уникальных эпизодов, внешних свидетелей, которые могли бы предложить свой отклик (White&Eptson, 1990, White, 2007). Рассеянный читатель мог увидеть в этих историях репрезентации прожитых жизней. Как переводчик и человек, обладающий инсайдерским опытом, я стала осознавать, что реальности заново конструировались и понимались. Свершающееся в разговоре принадлежало самому диалогу, не относилось к прошлому. События не рассказывались, но полностью пере-проживались внутри новых картин мира.
Более понятным это для меня стало в процессе личных и академических попыток перевода одной из историй Майкла (2007) из его «Карт нарративной практики». Это была история Томаса. У Томаса сохранилось не слишком много воспоминаний из ранних лет, одно из них — суицид матери в его 7 лет. В разговоре он вспомнил один на первый взгляд очень простой эпизод — как они с мамой во время прогулки прошли мимо мёртвой собаки, которую сбила машина. Его мама сказала: «Дети здесь видели уже достаточно плохого» (p. 156). Из этого эпизода, через осторожно сменяющие друг друга вопросы и приглашение внешних свидетелей, родилась новая насыщенная и устойчивая история сердечных и любящих отношений между Томасом и его мамой: «Томас внезапно увидел новые возможности на горизонтах своей жизни, и со временем начал делать шаги к их реализации» (p. 162).
Словари Майкла и Дэвида позволяют очень живо передать чувства, впечатления, картины мира, как это происходит в романах Гарсиа Маркеса. Меня так захватывали их беседы, что казалось — стоит пошевелить рукой, и я смогу их коснуться. Вместо чтения и перевода их работы, я словно перемещалась в неё. Это было так похоже на чтение «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса. Тогда я переместилась в «Макондо», фантастическое место, созданное им с такой реалистичностью, что оно практически стало Колумбией, которую я знаю сейчас и помню по диаспоре.
Иллюстрацией искусства новелизации жизней людей, которым владел Дэвид, может стать одна из многочисленных историй о его работе (2004), история работы с Сашей и её матерью Мари. Саша столкнулась с сильнейшими страхами перед ночным сном в одиночестве. В процессе диалога Дэвид пригласил рассмотреть возможность «переливания мужества» от Мари к дочери. Приглашение было принято, и они конкретизировали это до «переливания без иглы». Дэвид начал расспрашивать о временах, когда Мари удавалось преодолеть собственные страхи — расспрашивал, помогая вспомнить о событии, когда она чувствовала «в теле мужество, возможное к переливанию в тело её дорогой дочери».
Дэвид писал:
Казалось, можно увидеть, как грудная клетка Мари набухает, набираясь того, что по моему предположению было «мужеством», как каким-то образом оно начало течь по её руке, вниз, передаваясь протянутой правой руке Саши. Повернувшись к Саше, я спросил: «Ты уже можешь почувствовать его?». Через несколько секунд она ответила, что да. Я спросил: «Оно тёплое и уютное? Или холодное и бодрящее?» Она склонялась к последнему. Затем мы отследили его перемещения в теле, как оно поднялось по её руке, опустилось к сердцу, и наконец под действием гравитации достигло кончиков пальцев на ногах...»
Эта история не только демонстрирует язык Дэвида и показывает его безграничность, как это происходит в магическом реализме. В ней реализм доходит до таких пределов, что появляется возможность перелить мужество от матери к дочери без иглы. Язык магического реализма позволяет историям о жизнях людей насыщаться экстраординарным, наполненным, душевным — становиться теми, «какими человек стремится их увидеть в своём сознании» (D. Epston, из личных бесед, November 12, 2007).
Искусство новелизации в магическом реализме также обеспечивает нарративным практикам возможность гибридизировать истории. Я считаю, что концепт гибрида может быть очень полезным при ответе на довольно частый комментарий о влиятельности нарративных практиков в перемещении доминантной истории на позицию подчинённой и наоборот. Этот комментарий также содержит допущение, что нарративные практики направляют диалог в сторону разворачивания альтернативной истории до доминантной и превращения её в новую единственную точку зрения.
Если смотреть на отношения между доминантной и подчинённой историями через концепт гибрида, это даёт возможность пристальнее рассмотреть власть одной над другой. Когда мы одновременно удерживаем два конфликтующих знания, остраняется привычное видение одной как подавляющей другую. В сопоставлении их неравенство временно переворачивается вверх ногами, открывая возможности действиям несогласия и мятежа (White, 2002), при этом их взаимосвязь, из которой пере-порождаются истории, сохраняется. Понятие доминантности перестаёт иметь такое значение, когда и доминантная, и подчинённая истории рассматриваются одновременно с двух радикально разных позиций. Это можно проиллюстрировать примером того, что писала девушка об анорексии и анти-анорексии в Maisel et al. (2004):
Для меня жизнь в стиле анти-анорексии — жизнь в соответствии с моими собственными ценностями, убеждениями и мечтами, а не теми, что принадлежат анорексии. Это об активном выборе между жизнью, к которой бы привела меня анорексия, и жизнью, которую я вижу для себя. Это о том, чтобы когда только возможно, соглашаться на анти-анорексичные вызовы и риски, и принимать временное «поражение», когда это невозможно (и что более важно — не позволять этому «поражению» остановить меня от принятия вызова позже) (p. 164).
Понятие «анти-анорексии» в этом примере включает в себя отношения между двумя наборами историй. Это словно билингвизация историй внутри одного языка (Polanco &Epston, 2009). Каждая история, анорексии и анти-анорексии в этом случае, будет рассмотрена как два набора «языков» внутри одного (или мета-языка) с их собственными словарями. Как в случае с билингвизмом, это даёт возможность переключаться от одного языка к другому и вступать в диалог, чтобы создать что-то новое за пределами изначальной единственной/монолингвальной доминирующей истории. Примерно как в билингвизме, через игру языка и понятие гибридности размываются характерные особенности доминантной и подчинённой историй, создавая пространство для расцвета обновлённых и освеженных опытов, более резонирующих с предпочитаемыми людьми картинами мира.
Понятие гибридности расширяет понимание экстернализирующих разговоров (Epston, 2008; Freedman & Combs, 1996; Maisel, et. al. 2004; Morgan, 2000; White, 2007; White & Epston, 1990). Через языковой сдвиг (Freedman and Combs, 2006) проблема размещается в социальном и культурном контексте (вместо контекста ощущаемой человеком идентичности), делаются видимыми закамуфлированные ограничения, наложенные дискурсом. В результате становится возможным отделить человека от социально сконструированных проблем. И идентичность человека, и одна из проблем обновляются. Они начинают развивать свои словари, политику и практики, пересекаясь в пространстве между.
Будучи штатным психологом в студенческом консультативном центре в университете Nova Southeastern, я попыталась адаптировать это искусство новелизации для своих нарративных терапевтических практик. Мне хотелось больше играть со словами и уделять пристальное внимание словарям людей. По мере работы с сырым материалом их жизней это приводило к появлению новых словарей — вот только несколько примеров: независимость из слоганов Mountain Dew; грусть как когда узнал, что Деда-Мороза не существует; страх эгоистичной болтологии; любовь заботливого мозга; партнёр как рис без добавок; партнёр как шафрановый рис с бобами; язык сердца; язык мозга; отношения без названия; подход к отношениям, как в магазине здоровой еды; выживание в режиме III Мировой войны; подход к отношениям по типу Сабвэя; просвещённая интрижка; человек-чувство; разрыв, которому позавидовал бы клан Сопрано.
Следующие истории помогут более детально проиллюстрировать, как я внедряла эти идеи в свои нарративные диалоги. Однако важно учитывать, что это всё ещё процесс.
Искусство новелизации в магическом реализме также обеспечивает нарративным практикам возможность гибридизировать истории. Я считаю, что концепт гибрида может быть очень полезным при ответе на довольно частый комментарий о влиятельности нарративных практиков в перемещении доминантной истории на позицию подчинённой и наоборот. Этот комментарий также содержит допущение, что нарративные практики направляют диалог в сторону разворачивания альтернативной истории до доминантной и превращения её в новую единственную точку зрения.
Если смотреть на отношения между доминантной и подчинённой историями через концепт гибрида, это даёт возможность пристальнее рассмотреть власть одной над другой. Когда мы одновременно удерживаем два конфликтующих знания, остраняется привычное видение одной как подавляющей другую. В сопоставлении их неравенство временно переворачивается вверх ногами, открывая возможности действиям несогласия и мятежа (White, 2002), при этом их взаимосвязь, из которой пере-порождаются истории, сохраняется. Понятие доминантности перестаёт иметь такое значение, когда и доминантная, и подчинённая истории рассматриваются одновременно с двух радикально разных позиций. Это можно проиллюстрировать примером того, что писала девушка об анорексии и анти-анорексии в Maisel et al. (2004):
Для меня жизнь в стиле анти-анорексии — жизнь в соответствии с моими собственными ценностями, убеждениями и мечтами, а не теми, что принадлежат анорексии. Это об активном выборе между жизнью, к которой бы привела меня анорексия, и жизнью, которую я вижу для себя. Это о том, чтобы когда только возможно, соглашаться на анти-анорексичные вызовы и риски, и принимать временное «поражение», когда это невозможно (и что более важно — не позволять этому «поражению» остановить меня от принятия вызова позже) (p. 164).
Понятие «анти-анорексии» в этом примере включает в себя отношения между двумя наборами историй. Это словно билингвизация историй внутри одного языка (Polanco &Epston, 2009). Каждая история, анорексии и анти-анорексии в этом случае, будет рассмотрена как два набора «языков» внутри одного (или мета-языка) с их собственными словарями. Как в случае с билингвизмом, это даёт возможность переключаться от одного языка к другому и вступать в диалог, чтобы создать что-то новое за пределами изначальной единственной/монолингвальной доминирующей истории. Примерно как в билингвизме, через игру языка и понятие гибридности размываются характерные особенности доминантной и подчинённой историй, создавая пространство для расцвета обновлённых и освеженных опытов, более резонирующих с предпочитаемыми людьми картинами мира.
Понятие гибридности расширяет понимание экстернализирующих разговоров (Epston, 2008; Freedman & Combs, 1996; Maisel, et. al. 2004; Morgan, 2000; White, 2007; White & Epston, 1990). Через языковой сдвиг (Freedman and Combs, 2006) проблема размещается в социальном и культурном контексте (вместо контекста ощущаемой человеком идентичности), делаются видимыми закамуфлированные ограничения, наложенные дискурсом. В результате становится возможным отделить человека от социально сконструированных проблем. И идентичность человека, и одна из проблем обновляются. Они начинают развивать свои словари, политику и практики, пересекаясь в пространстве между.
Будучи штатным психологом в студенческом консультативном центре в университете Nova Southeastern, я попыталась адаптировать это искусство новелизации для своих нарративных терапевтических практик. Мне хотелось больше играть со словами и уделять пристальное внимание словарям людей. По мере работы с сырым материалом их жизней это приводило к появлению новых словарей — вот только несколько примеров: независимость из слоганов Mountain Dew; грусть как когда узнал, что Деда-Мороза не существует; страх эгоистичной болтологии; любовь заботливого мозга; партнёр как рис без добавок; партнёр как шафрановый рис с бобами; язык сердца; язык мозга; отношения без названия; подход к отношениям, как в магазине здоровой еды; выживание в режиме III Мировой войны; подход к отношениям по типу Сабвэя; просвещённая интрижка; человек-чувство; разрыв, которому позавидовал бы клан Сопрано.
Следующие истории помогут более детально проиллюстрировать, как я внедряла эти идеи в свои нарративные диалоги. Однако важно учитывать, что это всё ещё процесс.
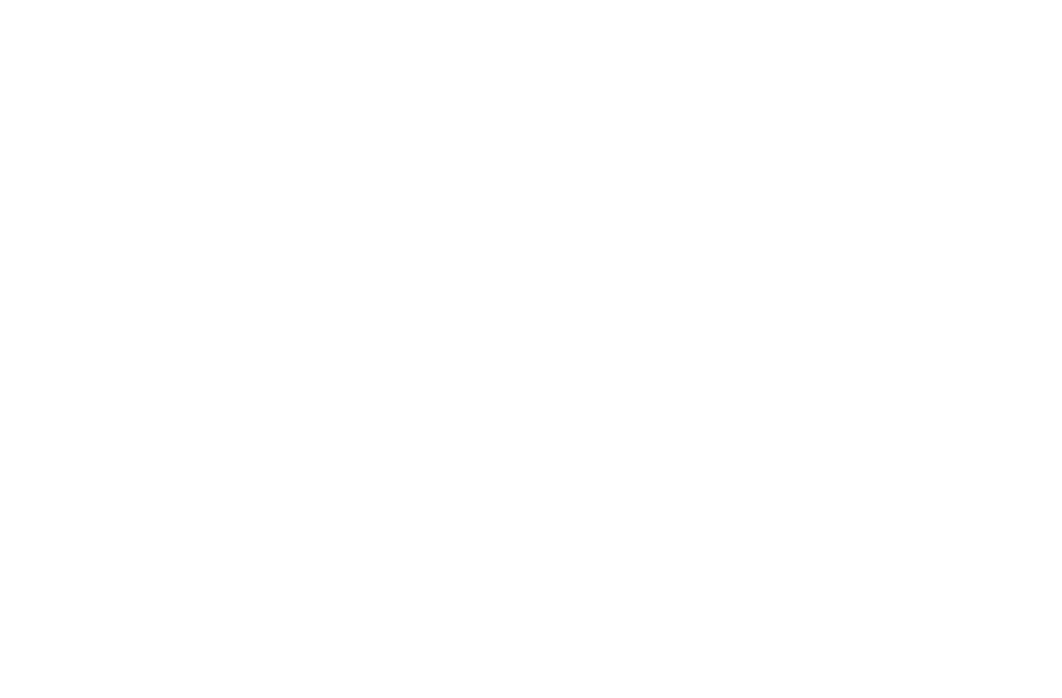
Татьяна
С Татьяной[6] мы встретились в студенческом консультативном центре в университете Nova Southeastern, в котором я работала. Она пришла из-за «проблем в отношениях». Татьяна — женщина из страны Латинской Америки, мигрировала в штаты в подростковом возрасте. Она говорила, что «свободно владеет» и английским, и испанским, но испанский был для неё языком, на котором она могла «чувствовать». Мы с Татьяной общались на английском о любви, и девушка сказала, что хотя её нынешний партнёр, мужчина из Северной Америки, с которым она познакомилась за несколько месяцев до нашей встречи, использовал в её адрес слово «любовь» для выражения своих чувств, она не могла этого сделать.
Я расспрашивала, как Татьяна определяет любовь, и она ответила, что для неё это «пустое слово». Любовь не имела смысла для Татьяны — а значит не было смысла и использовать его. В этот момент я перевела разговор на испанский и спросила Татьяну, как переводится слово «любовь» на этот язык. Татьяна назвала слово amor. Я спросила, есть ли наполненность у слова amor, или оно такое же пустое, как любовь.
Наш разговор пошёл по пути различения слов amor и querer. Для Татьяны слово amor скорее принадлежало романам, но не повседневной жизни. Таким образом, querer больше подходило для словаря её чувств. Я пригласила Татьяну определить это слово как можно ближе к её чувствам, что привело нас к понятию te quiero. Эти слова пробудили глубокий опыт, который соединил её с голосом матери, использующей эти слова: “yo te quiero, te quiero mucho.” Татьяна добавила к этому воспоминанию взгляд материнских глаз, когда та касалась её щеки и гладила ладонью по лицу. Татьяна могла почувствовать тепло голоса матери, распространявшееся по всему телу. Для Татьяны слово «любовь» не содержало всех этих переживаний.
Чувства Татьяны принадлежали испанской культуре, она ещё не переложила их на английскую. Я пригласила Татьяну перевести quiero в любовь, поскольку язык её текущих отношений был английским. Татьяна отнеслась к этой идее с любопытством и сказала, что из своего английского умонастроения и зная, что любовь означает в испанском, она сможет «увидеть» её воплощение. Это привело её к открытию, что любовь — это ощущение теплоты партнёра, взгляд партнёру в глаза, тон его голоса, заботливые жесты. Татьяна адаптировала ученическую позицию, из которой исследовала значение te quiero в новом языке, открывая вместе с этим новый опыт переживания любви.
С Татьяной[6] мы встретились в студенческом консультативном центре в университете Nova Southeastern, в котором я работала. Она пришла из-за «проблем в отношениях». Татьяна — женщина из страны Латинской Америки, мигрировала в штаты в подростковом возрасте. Она говорила, что «свободно владеет» и английским, и испанским, но испанский был для неё языком, на котором она могла «чувствовать». Мы с Татьяной общались на английском о любви, и девушка сказала, что хотя её нынешний партнёр, мужчина из Северной Америки, с которым она познакомилась за несколько месяцев до нашей встречи, использовал в её адрес слово «любовь» для выражения своих чувств, она не могла этого сделать.
Я расспрашивала, как Татьяна определяет любовь, и она ответила, что для неё это «пустое слово». Любовь не имела смысла для Татьяны — а значит не было смысла и использовать его. В этот момент я перевела разговор на испанский и спросила Татьяну, как переводится слово «любовь» на этот язык. Татьяна назвала слово amor. Я спросила, есть ли наполненность у слова amor, или оно такое же пустое, как любовь.
Наш разговор пошёл по пути различения слов amor и querer. Для Татьяны слово amor скорее принадлежало романам, но не повседневной жизни. Таким образом, querer больше подходило для словаря её чувств. Я пригласила Татьяну определить это слово как можно ближе к её чувствам, что привело нас к понятию te quiero. Эти слова пробудили глубокий опыт, который соединил её с голосом матери, использующей эти слова: “yo te quiero, te quiero mucho.” Татьяна добавила к этому воспоминанию взгляд материнских глаз, когда та касалась её щеки и гладила ладонью по лицу. Татьяна могла почувствовать тепло голоса матери, распространявшееся по всему телу. Для Татьяны слово «любовь» не содержало всех этих переживаний.
Чувства Татьяны принадлежали испанской культуре, она ещё не переложила их на английскую. Я пригласила Татьяну перевести quiero в любовь, поскольку язык её текущих отношений был английским. Татьяна отнеслась к этой идее с любопытством и сказала, что из своего английского умонастроения и зная, что любовь означает в испанском, она сможет «увидеть» её воплощение. Это привело её к открытию, что любовь — это ощущение теплоты партнёра, взгляд партнёру в глаза, тон его голоса, заботливые жесты. Татьяна адаптировала ученическую позицию, из которой исследовала значение te quiero в новом языке, открывая вместе с этим новый опыт переживания любви.
Чтобы защитить идентичность этих людей, имя и другая личная информация в тексте была изменена.
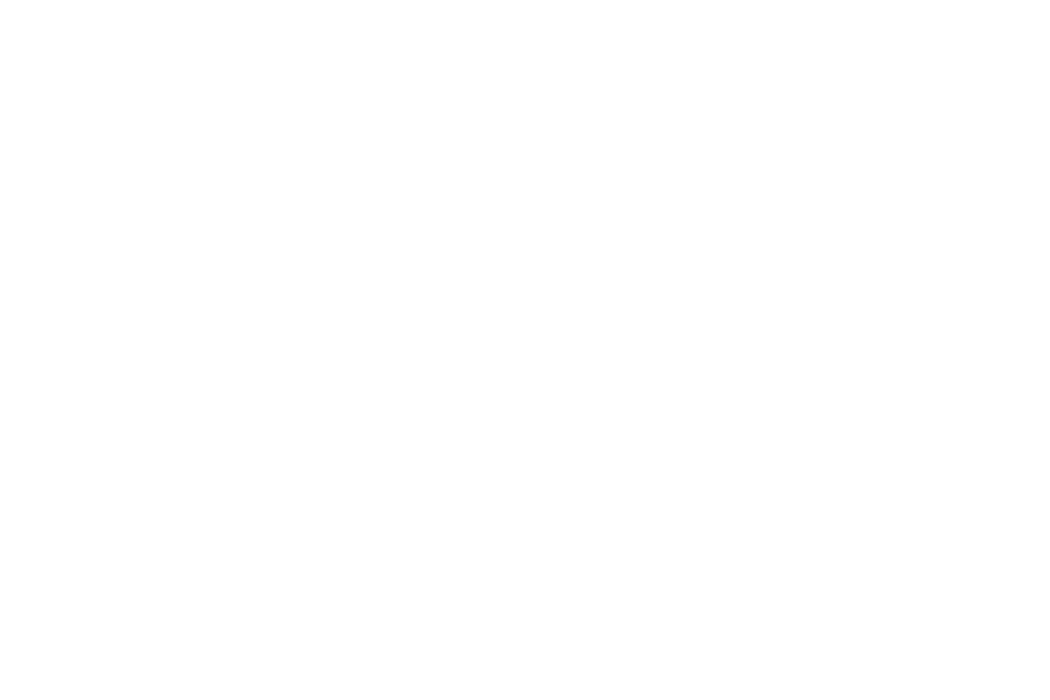
Сара
Сара, англоязычная женщина из Северной Америки, пришла в студенческий консультативный центр из-за «депрессии». На первой встрече Сара рассказала мне о невозможности отпустить близкого друга-мужчину, с которым её связывали надежды на более близкие романтические отношения, и это приносило депрессию в её жизнь. Она больше года хранила эти надежды в себе, а когда наконец обсудила их с другом, тот чётко дал понять, что не ищет романтических отношений, но что он любит её. Чувства друга вместе с заботливым отношением к ней и настаиванием на поддержании их дружбы привели её в замешательство, и в результате Сара решила выйти из этих отношений.
Замешательство причиняло ей боль, пробуждая чувства отверженности и неадекватности.
Мы обсуждали, почему для Сары было важно держаться за надежды на близкие и романтические отношения. Она говорила о своём стремлении стать матерью и образовать семью. Мы также говорили о чувствах отверженности и неадекватности, пробудившихся в ней, когда в попытках найти причину отвержения она начала сравнивать себя с другими женщинами её друга.
На нашей следующей встрече Сара сказала мне, что между сессиями она плакала, и для неё это показывало, что наш предыдущий разговор проходил в её голове, но не в сердце. Сара сказала, что мои вопросы — как и её ответы и размышления — не говорили с её сердцем. Она также сказала, что её мозг плакать перестал, но сердце — нет. Мы обсуждали, что её мозг и сердце говорят на разных языках, а язык, который мы использовали в разговоре, был исключительно языком мозга.
Я расспрашивала, как Сара пришла к разговору с сердцем. Может быть она могла бы научить меня этому, поскольку мне очень интересно было услышать, что могло сказать её сердце? Сара ответила, что сама раньше не знала об этом и поняла только сейчас. Мы обсуждали, что в её привычной культуре эти два типа языков разделялись, и она знала — как. Дискурсы о мозге включали в себя дискурсы рационализации и контроля, дискурсы сердца — эмоций и безволия. Этот разговор поставил перед нами задачу не только научиться говорить на языке сердца, но переводить его на язык мозга и наоборот, чтобы при необходимости они могли быть в диалоге.
На нашу следующую встречу Сара пришла с великолепными новостями — она обнаружила, как быть в диалоге с сердцем. На первой встрече она рассказывала мне об отношениях родителей, об их альбоме с цитатами, в котором они вели записи о своей любви. Цитаты рассказывали об их чувствах и «особом опыте». Отец Сары умер, когда той было три года, и этот альбом стал наследием, задокументировавшим любовь родителей.
Сара поделилась нашим разговором со своей матерью и узнала, что цитаты родителей стали языком их сердец, так их сердца могли говорить друг с другом. Мы поняли, что она могла научиться говорить со своим сердцем с помощью дневника родителей. Сара спросила у матери, можно ли ей воспользоваться им но мама не знала, где он сейчас. На последнюю встречу Сара пришла с ещё более потрясающими новостями — она нашла альбом с цитатами.
Сара вытащила из сумки небольшой дневник, который явно прошёл через многое. Мама Сары щедро разрешила поделиться со мной содержанием, и благодаря ей мне выпала честь быть свидетельницей чтения Сарой документа, написанного на языке сердца её родителей, отражающего их любовь друг к другу. Я могла наблюдать, как через это выдающееся наследие у Сары появилось понимание языка собственного сердца. Она прерывалась показать мне картинки рядом с этими цитатами или чтобы поделиться размышлениями о том, что она понимала из этого. Так мы учились языку её сердца как новому языку близости и надежд, подаренных её родителям «особым опытом».
На следующей встрече мы пересмотрели идею диалога между узнанным теперь Сарой языком сердца и языком мозга. Сара думала, что в каком-то смысле ей нужно стать билингвом, чтобы говорить на языке сердца и языке мозга. В пространстве между этими языками она смогла найти дневниковые записи и музыку, и это стало её новыми гибридными навыками. Так сердце могло при необходимости вступить в диалог с мозгом и наоборот.
Цитаты и песни расширили словарь её сердца, а с помощью перевода мозг мог воспринять другой опыт, уже не связанный с оценивающими её отверженность, неадекватность и одиночество рациональными мыслями. Новый опыт был принесён поэтическим языком песен и цитат, языком сердца, показавшим мозгу опыт таких близких связей, какие раньше Сара отрицала.
Сара, англоязычная женщина из Северной Америки, пришла в студенческий консультативный центр из-за «депрессии». На первой встрече Сара рассказала мне о невозможности отпустить близкого друга-мужчину, с которым её связывали надежды на более близкие романтические отношения, и это приносило депрессию в её жизнь. Она больше года хранила эти надежды в себе, а когда наконец обсудила их с другом, тот чётко дал понять, что не ищет романтических отношений, но что он любит её. Чувства друга вместе с заботливым отношением к ней и настаиванием на поддержании их дружбы привели её в замешательство, и в результате Сара решила выйти из этих отношений.
Замешательство причиняло ей боль, пробуждая чувства отверженности и неадекватности.
Мы обсуждали, почему для Сары было важно держаться за надежды на близкие и романтические отношения. Она говорила о своём стремлении стать матерью и образовать семью. Мы также говорили о чувствах отверженности и неадекватности, пробудившихся в ней, когда в попытках найти причину отвержения она начала сравнивать себя с другими женщинами её друга.
На нашей следующей встрече Сара сказала мне, что между сессиями она плакала, и для неё это показывало, что наш предыдущий разговор проходил в её голове, но не в сердце. Сара сказала, что мои вопросы — как и её ответы и размышления — не говорили с её сердцем. Она также сказала, что её мозг плакать перестал, но сердце — нет. Мы обсуждали, что её мозг и сердце говорят на разных языках, а язык, который мы использовали в разговоре, был исключительно языком мозга.
Я расспрашивала, как Сара пришла к разговору с сердцем. Может быть она могла бы научить меня этому, поскольку мне очень интересно было услышать, что могло сказать её сердце? Сара ответила, что сама раньше не знала об этом и поняла только сейчас. Мы обсуждали, что в её привычной культуре эти два типа языков разделялись, и она знала — как. Дискурсы о мозге включали в себя дискурсы рационализации и контроля, дискурсы сердца — эмоций и безволия. Этот разговор поставил перед нами задачу не только научиться говорить на языке сердца, но переводить его на язык мозга и наоборот, чтобы при необходимости они могли быть в диалоге.
На нашу следующую встречу Сара пришла с великолепными новостями — она обнаружила, как быть в диалоге с сердцем. На первой встрече она рассказывала мне об отношениях родителей, об их альбоме с цитатами, в котором они вели записи о своей любви. Цитаты рассказывали об их чувствах и «особом опыте». Отец Сары умер, когда той было три года, и этот альбом стал наследием, задокументировавшим любовь родителей.
Сара поделилась нашим разговором со своей матерью и узнала, что цитаты родителей стали языком их сердец, так их сердца могли говорить друг с другом. Мы поняли, что она могла научиться говорить со своим сердцем с помощью дневника родителей. Сара спросила у матери, можно ли ей воспользоваться им но мама не знала, где он сейчас. На последнюю встречу Сара пришла с ещё более потрясающими новостями — она нашла альбом с цитатами.
Сара вытащила из сумки небольшой дневник, который явно прошёл через многое. Мама Сары щедро разрешила поделиться со мной содержанием, и благодаря ей мне выпала честь быть свидетельницей чтения Сарой документа, написанного на языке сердца её родителей, отражающего их любовь друг к другу. Я могла наблюдать, как через это выдающееся наследие у Сары появилось понимание языка собственного сердца. Она прерывалась показать мне картинки рядом с этими цитатами или чтобы поделиться размышлениями о том, что она понимала из этого. Так мы учились языку её сердца как новому языку близости и надежд, подаренных её родителям «особым опытом».
На следующей встрече мы пересмотрели идею диалога между узнанным теперь Сарой языком сердца и языком мозга. Сара думала, что в каком-то смысле ей нужно стать билингвом, чтобы говорить на языке сердца и языке мозга. В пространстве между этими языками она смогла найти дневниковые записи и музыку, и это стало её новыми гибридными навыками. Так сердце могло при необходимости вступить в диалог с мозгом и наоборот.
Цитаты и песни расширили словарь её сердца, а с помощью перевода мозг мог воспринять другой опыт, уже не связанный с оценивающими её отверженность, неадекватность и одиночество рациональными мыслями. Новый опыт был принесён поэтическим языком песен и цитат, языком сердца, показавшим мозгу опыт таких близких связей, какие раньше Сара отрицала.
Заключение
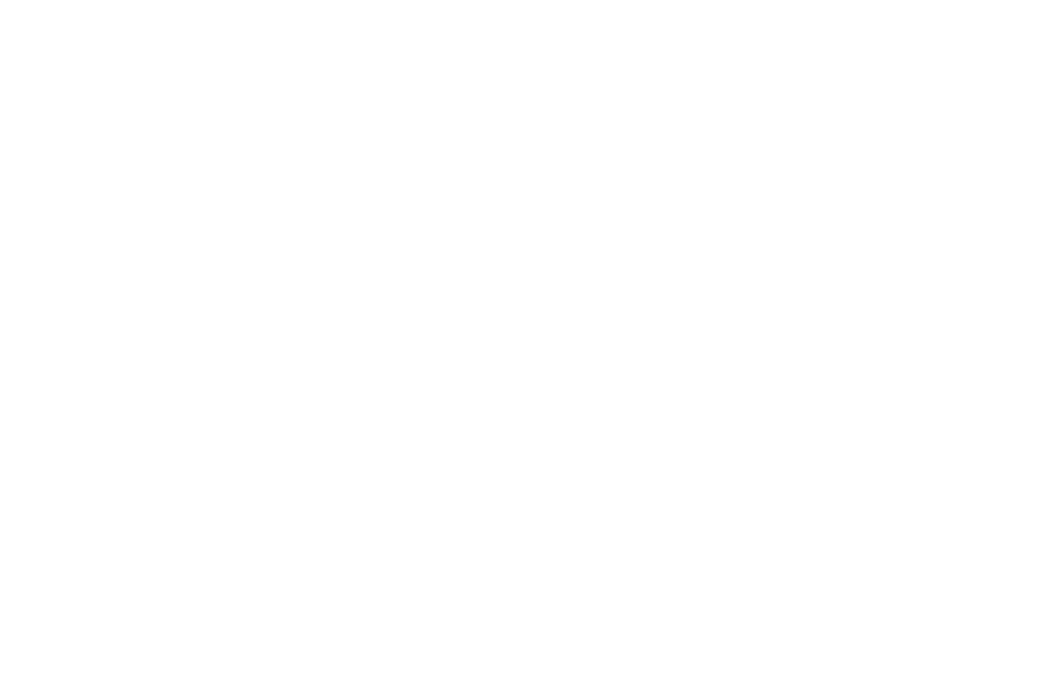
В этом тексте я попыталась объединить вытекающие из билингвизма и магического реализма потоки нарративных практик. Как Уайт и Эпстон для формирования основ заглядывали на территории, чуждые психотерапии, так и мы можем узнать многое, пересекая границы разных областей.
Исследование билингвизма добавляет понимания неограниченности языка как у монолингвов, так и у мультилингвов. Отталкиваясь от мультисубъективности, в которой оказываются билингвы, язык набирается гибкости и свободы и движется к тому, чтобы стать языком воплощения. В пределах монолингвальности, билингвальность открывает возможности для развития мета-языков и корреспондирующих с ними реальностей. Если ограничивать билингвизм его географическими или национальными контекстами или процессами психологического развития, может потеряться его богатство:
«Потеряйте язык, и вы обездолите мир...» (Sommer, 2004, p. Xvii).
Магический реализм дарит нарративной терапии искусство новелизации. Он приносит в нарративную практику обновлённый взгляд на развитие истории, делая возможным использование гибридных знаний. Искусство и ремесло новелизации «как у Гарсиа Маркеса» увеличивает поэтическое богатство языка, посредством которого обнаруживается экстраординарное и магическое в жизни. Это создаёт пространство для более креативных разговоров, но что более важно — для насыщенных разговоров, сильнее резонирующих с предпочитаемыми людьми историями их жизней.
Исследование билингвизма добавляет понимания неограниченности языка как у монолингвов, так и у мультилингвов. Отталкиваясь от мультисубъективности, в которой оказываются билингвы, язык набирается гибкости и свободы и движется к тому, чтобы стать языком воплощения. В пределах монолингвальности, билингвальность открывает возможности для развития мета-языков и корреспондирующих с ними реальностей. Если ограничивать билингвизм его географическими или национальными контекстами или процессами психологического развития, может потеряться его богатство:
«Потеряйте язык, и вы обездолите мир...» (Sommer, 2004, p. Xvii).
Магический реализм дарит нарративной терапии искусство новелизации. Он приносит в нарративную практику обновлённый взгляд на развитие истории, делая возможным использование гибридных знаний. Искусство и ремесло новелизации «как у Гарсиа Маркеса» увеличивает поэтическое богатство языка, посредством которого обнаруживается экстраординарное и магическое в жизни. Это создаёт пространство для более креативных разговоров, но что более важно — для насыщенных разговоров, сильнее резонирующих с предпочитаемыми людьми историями их жизней.
Если понравилась статья, и хочешь поддержать переводчика, жми сюда!
Ссылки
· Ansre, G. (1979). Four rationalization for maintaining European languages in education in Africa. African Languages, 5(2), 10–17.
· Bell-Villada, G. (2006). Conversations with Gabriel Garcia Marquez. Mississippi: University of Mississippi.
· Bowers, M. A. (2004). Magic(al) realism. New York: Routledge and Kegan Paul.
· Boyle, J. (1997). Imperialism and the English language in Hong Kong. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 18(3), 169–181.
· Burck, C. (2004). Living in several languages: Implication for therapy. Journal of Family Therapy, 26, 314–339.
· Epston, D. (2004). Sasha, Amber, Joel Fay and Isha. Journal of Brief Therapy, (3–2), 97–106.
· Epston, D. (2008). Down under and up over: Travels with narrative therapy. Great Britain: AFT Publishing, Ltd.
· Faris, W. B. (2004). Ordinary enchanments: Magical realism and the remystification of narrative. Nashville: Vanderbilt University Press.
· Freedman, J., & Combs, G. (2006). Narrative therapy: The social construction of preferred realities. New York: W.W. Norton, Inc.
· Garcia Marquez, G. (1997, April 8). Botella al mar para el dios de las palabras. [Bottle at sea for the words god]. La Jornada. Retrieved June 15, 2007, from http://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm6.htm#Botella%20al%20mar%20para%20el%20dios%20de%20las%20palabras
· Garcia Marquez, G. (2004). Living to tell the tale. Barcelona: Penguin Books.
· Geisinger, K. F. (1993, Winter). Psychological Testing of Hispanics. Journal of Educational Measurement, 30(4), 351–356.
· Harrison, J. (1992). Salman Rushdie. New York: Twayne Publishers.
· Kachru, B. B. (1986). The power and politics of English. World Englishes, 5(2–3), 121–140.
· Karamat, R. (2004). Bilingualism and systemic psychotherapy: Some formulations and explorations. The Journal of Family Therapy, 26, 340–357.
· Leal, L. (1967). El realismo magico en la literatura hispanoamericana. [Magical realism in the Hispanic literature]. Cuadernos Americanos, 153(4), 230–235.
· Maisel, R., Epston, D., & Borden, A. (2004). Bitting the hand that starves you. New York: W.W. Norton. Inc. 14 Polanco
· Ministerio de Educacion Colombiano [Colombian Department of Education]. (2006, May 11). En Colombia no se Habla Ingles. [In Colombia English is not spoken]. Centro
· Virtual de Noticias.[Virtual News Center]. Retrieved June 11, 2007, from http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-98777.pdf
· Morales, E. (2002). Living in Spanglish: The search for Latino identity in America. New York: St. Martin’s Press.
· Morgan, A. (2000). What is narrative therapy? An easy-to-read introduction. Adelaide: Dulwich Centre Publications.
· Morson, G. S., & Emerson, C. (1990). Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford:Stanford University Press.
· Parkinson Zamora, L., & Faris, W. B. (1995). Magical Realism: Theory, History, Community, Durham & London: Duke University Press.
· Pennycook, A. (1994). The cultural politics of English as an international language. London: Longman.
· Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.
· Polanco, M., & Epston, D. (2009). Tales of travels across languages: Languages and their anti-languages. Journal of Narrative Therapy and Community Work, 4, 38–47.
· Richard, A. F. (1989, October). Psychological testing of linguistic-minority students: knowledge gaps and regulations. Exceptional Childre, 56(2), 145–52.
· Scott, C. (2000). Translating Baudelarie. Exeter: University of Exeter Press.
· Sommer, D. (2004). Bilingual aesthetics: A new sentimental education. Durham & London: Duke University Press.
· Speedy, J. (2008). Narrative inquiry & psychotherapy. New York: Palgrave Macmillian.
· Tollesfon, J. (1991). Planning language, planning inequality: Language policy in the community. London: Longman
· White M., & Epston D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: W.W.Norton & Company.
· White, M. (2002). Addressing personal failure. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, 3, 33–70.
· Bell-Villada, G. (2006). Conversations with Gabriel Garcia Marquez. Mississippi: University of Mississippi.
· Bowers, M. A. (2004). Magic(al) realism. New York: Routledge and Kegan Paul.
· Boyle, J. (1997). Imperialism and the English language in Hong Kong. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 18(3), 169–181.
· Burck, C. (2004). Living in several languages: Implication for therapy. Journal of Family Therapy, 26, 314–339.
· Epston, D. (2004). Sasha, Amber, Joel Fay and Isha. Journal of Brief Therapy, (3–2), 97–106.
· Epston, D. (2008). Down under and up over: Travels with narrative therapy. Great Britain: AFT Publishing, Ltd.
· Faris, W. B. (2004). Ordinary enchanments: Magical realism and the remystification of narrative. Nashville: Vanderbilt University Press.
· Freedman, J., & Combs, G. (2006). Narrative therapy: The social construction of preferred realities. New York: W.W. Norton, Inc.
· Garcia Marquez, G. (1997, April 8). Botella al mar para el dios de las palabras. [Bottle at sea for the words god]. La Jornada. Retrieved June 15, 2007, from http://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm6.htm#Botella%20al%20mar%20para%20el%20dios%20de%20las%20palabras
· Garcia Marquez, G. (2004). Living to tell the tale. Barcelona: Penguin Books.
· Geisinger, K. F. (1993, Winter). Psychological Testing of Hispanics. Journal of Educational Measurement, 30(4), 351–356.
· Harrison, J. (1992). Salman Rushdie. New York: Twayne Publishers.
· Kachru, B. B. (1986). The power and politics of English. World Englishes, 5(2–3), 121–140.
· Karamat, R. (2004). Bilingualism and systemic psychotherapy: Some formulations and explorations. The Journal of Family Therapy, 26, 340–357.
· Leal, L. (1967). El realismo magico en la literatura hispanoamericana. [Magical realism in the Hispanic literature]. Cuadernos Americanos, 153(4), 230–235.
· Maisel, R., Epston, D., & Borden, A. (2004). Bitting the hand that starves you. New York: W.W. Norton. Inc. 14 Polanco
· Ministerio de Educacion Colombiano [Colombian Department of Education]. (2006, May 11). En Colombia no se Habla Ingles. [In Colombia English is not spoken]. Centro
· Virtual de Noticias.[Virtual News Center]. Retrieved June 11, 2007, from http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-98777.pdf
· Morales, E. (2002). Living in Spanglish: The search for Latino identity in America. New York: St. Martin’s Press.
· Morgan, A. (2000). What is narrative therapy? An easy-to-read introduction. Adelaide: Dulwich Centre Publications.
· Morson, G. S., & Emerson, C. (1990). Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford:Stanford University Press.
· Parkinson Zamora, L., & Faris, W. B. (1995). Magical Realism: Theory, History, Community, Durham & London: Duke University Press.
· Pennycook, A. (1994). The cultural politics of English as an international language. London: Longman.
· Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.
· Polanco, M., & Epston, D. (2009). Tales of travels across languages: Languages and their anti-languages. Journal of Narrative Therapy and Community Work, 4, 38–47.
· Richard, A. F. (1989, October). Psychological testing of linguistic-minority students: knowledge gaps and regulations. Exceptional Childre, 56(2), 145–52.
· Scott, C. (2000). Translating Baudelarie. Exeter: University of Exeter Press.
· Sommer, D. (2004). Bilingual aesthetics: A new sentimental education. Durham & London: Duke University Press.
· Speedy, J. (2008). Narrative inquiry & psychotherapy. New York: Palgrave Macmillian.
· Tollesfon, J. (1991). Planning language, planning inequality: Language policy in the community. London: Longman
· White M., & Epston D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: W.W.Norton & Company.
· White, M. (2002). Addressing personal failure. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, 3, 33–70.
- · White, M. (2007). Maps of narrative practices. New York: W.W. Norton Inc.

