Управление файлами cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Марсела Поланко и Дэвид Эпстон
Истории странствий по языкам: языки и их анти-языки
Перевод Полины Хорошиловой
Марсела Поланко работает психологом в студенческом консультативном центре, университет Nova Southeastern, Флорида, а также преподает в колледже Фаркуара, являющемся подразделением этого университета. С ней можно связаться по электронной почте (polanco@nova.edu) или написав по адресу 3301 College Ave., Parker Building Suite 150, Ft. Lauderdale, FL. 33314, USA.
Дэвид Эпстон — один из основателей направления, получившего название нарративной терапии. Он живёт и работает в Окленде, Новая Зеландия, и активно путешествует с целью преподавания. В соответствии с этим и его последняя книга вышла под заглавием «Down under and up over: Travels in narrative therapy» (2009). С Дэвидом можно связаться по e-mail: bicycle2@xtra.co.nz
Эта статья — результат коллаборации между начинающей билингвальной переводчицей/нарративным терапевтом (Марселой) и одним из основателей нарративной терапии (Дэвидом). Изучение перевода и билингвизма позволяет найти интересные и полезные возможности для обновлённого взгляда на нарративную терапию. По мере миграций нарративных идей в новые культуры, возникающие пересечения могут обогатить, ассимилировать и расширить нарративные практики. В то же время, рассмотрение билингвальности или мультилингвальности может повлиять на нашу практику внутри языков. Приведённый в тексте пример терапевтической работы показывает, как нарративные терапевтические беседы могут перемещаться между и сквозь разнообразными названиями сложностей, с которыми сталкиваются люди. В этом процессе нет необходимости сведения к общему пониманию, как это часто происходит в монолингвальных беседах. Наоборот, мультилингвальность предлагает играть с названиями в качестве временных конструкций, восприимчивых к обновлению или переосмыслению.
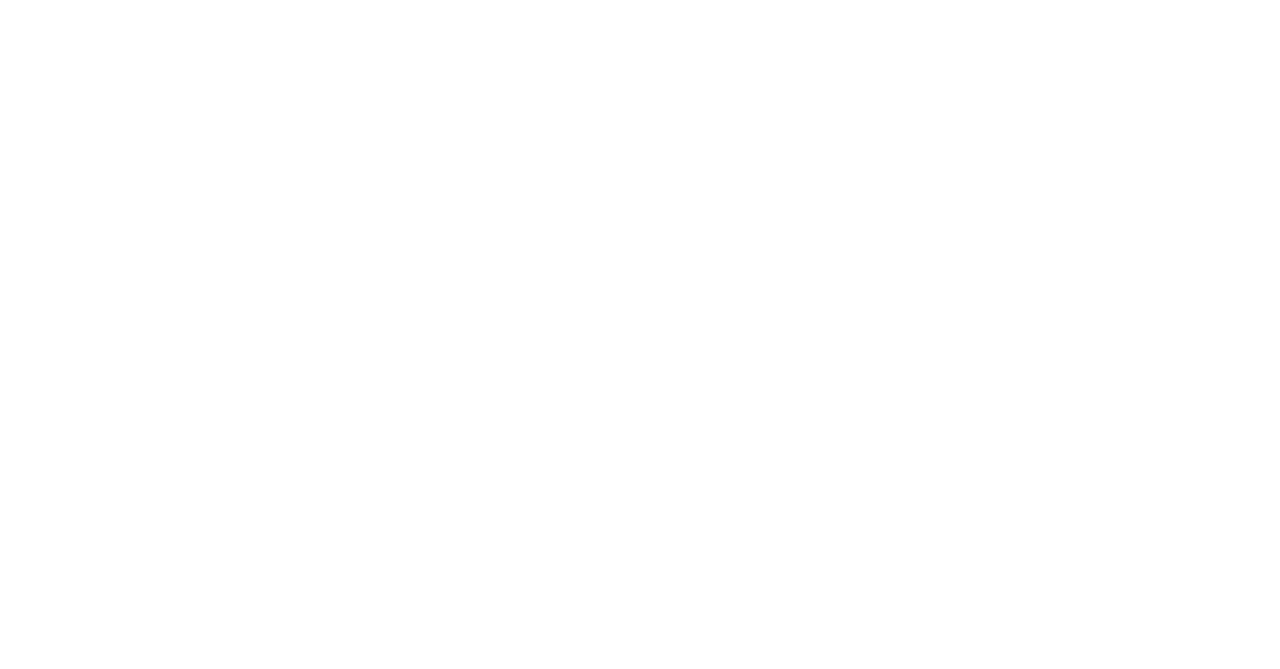
Ключевые слова: билингвизм, нарративная терапия, мультилингвизм, язык, анти-язык
Введение
Марсела встретилась с нарративными идеями во время прохождения докторской тренинговой программы по семейной терапии в университете Nova Southeastern (Флорида). Примерно тогда же я начала чувствовать себя по-свойски с английским. Я мигрировала в Америку из моей родной страны, Колумбии, когда мне было около 25 лет. Я только начинала работать нарративным семейным психологом на английском языке, и мой практикум тоже проходил на английском. К третьему году обучения меня ждал огорчительный сюрприз: начав встречаться с семьями, чьим предпочитаемым языком был испанский, я поняла, что английский для меня стал в каком-то смысле «родным языком» в плане речи, мышления и осуществления нарративной терапии, что низводило мой действительно родной испанский до статуса «иностранного языка».
Как бы странно это не звучало для вас — а для меня так и было — я пришла к заключению, что не могу использовать нарративную терапию или говорить о ней в терминах языка, с которым жила большую часть своей жизни. В каких-то аспектах своей жизни я была билингвальна, но в аспектах деятельности нарративного терапевта оказалась монолингвальна. На нарративной конференции в Гаване (Куба) в январе 2007 года я впервые столкнулась с представлением нарративных идей на моём родном испанском языке. Для меня это было словно учить нарративную терапию заново, как будто с нуля. На этой же конференции, в разговоре с моей коллегой из Мехико Мартой Компильо и Дэвидом Эпстоном, я пыталась — с долей смущения и значительным дискомфортом — «признаться» им в том, что моя деятельность в качестве нарративного терапевта чужда моему испанскому колумбийскому миру. Позже я поняла: мой дискомфорт был выражением переживаний по поводу того, что я как будто «отвернулась» от своей Колумбий-ности.
На следующий день после этого разговора ко мне подошёл Дэвид с предложением, которое положило начало самому восхитительному, интригующему и богатому опыту. Он спросил, не будет ли мне интересно отнестись к процессу изучения нарративной терапии на моём родном языке аутоэтнографически и превратить её в «объект» исследования с помощью английского, в котором я уже укрепилась в своих знаниях. Это звучит странно? Понимаю, для меня это тоже так звучало, когда я впервые задумалась над предложением Дэвида!
Но тем менее эта возможность заворожила меня, и я начала думать о том, как мои два языковых мира — испанский и английский — стали настолько разделены, что больше не вступают друг с другом в диалог. Мне пришлось допустить, что они больше не информировали друг друга, словно каждый из них усиленно работал на то, чтобы обеспечить свой суверенитет. С этой позиции у английского в каком-то смысле появлялась монополия на мою нарративную практику, тогда как испанский не знал об этом ничего. Я осваивала английский с пяти лет, когда во время обучения в Колумбии посещала билингвальные школы. Мама настояла на этом для нас с тремя сёстрами. В свою очередь, её настойчивость была связана с тем фактом, что десятилетиями на Колумбию влияли — политически, экономически и социально — США и другие зарубежные страны. Это исторически поставило английский в позицию «лингва франка» и превратило в образовательное требование к тем, кто мог себе это позволить.
Как бы странно это не звучало для вас — а для меня так и было — я пришла к заключению, что не могу использовать нарративную терапию или говорить о ней в терминах языка, с которым жила большую часть своей жизни. В каких-то аспектах своей жизни я была билингвальна, но в аспектах деятельности нарративного терапевта оказалась монолингвальна. На нарративной конференции в Гаване (Куба) в январе 2007 года я впервые столкнулась с представлением нарративных идей на моём родном испанском языке. Для меня это было словно учить нарративную терапию заново, как будто с нуля. На этой же конференции, в разговоре с моей коллегой из Мехико Мартой Компильо и Дэвидом Эпстоном, я пыталась — с долей смущения и значительным дискомфортом — «признаться» им в том, что моя деятельность в качестве нарративного терапевта чужда моему испанскому колумбийскому миру. Позже я поняла: мой дискомфорт был выражением переживаний по поводу того, что я как будто «отвернулась» от своей Колумбий-ности.
На следующий день после этого разговора ко мне подошёл Дэвид с предложением, которое положило начало самому восхитительному, интригующему и богатому опыту. Он спросил, не будет ли мне интересно отнестись к процессу изучения нарративной терапии на моём родном языке аутоэтнографически и превратить её в «объект» исследования с помощью английского, в котором я уже укрепилась в своих знаниях. Это звучит странно? Понимаю, для меня это тоже так звучало, когда я впервые задумалась над предложением Дэвида!
Но тем менее эта возможность заворожила меня, и я начала думать о том, как мои два языковых мира — испанский и английский — стали настолько разделены, что больше не вступают друг с другом в диалог. Мне пришлось допустить, что они больше не информировали друг друга, словно каждый из них усиленно работал на то, чтобы обеспечить свой суверенитет. С этой позиции у английского в каком-то смысле появлялась монополия на мою нарративную практику, тогда как испанский не знал об этом ничего. Я осваивала английский с пяти лет, когда во время обучения в Колумбии посещала билингвальные школы. Мама настояла на этом для нас с тремя сёстрами. В свою очередь, её настойчивость была связана с тем фактом, что десятилетиями на Колумбию влияли — политически, экономически и социально — США и другие зарубежные страны. Это исторически поставило английский в позицию «лингва франка» и превратило в образовательное требование к тем, кто мог себе это позволить.
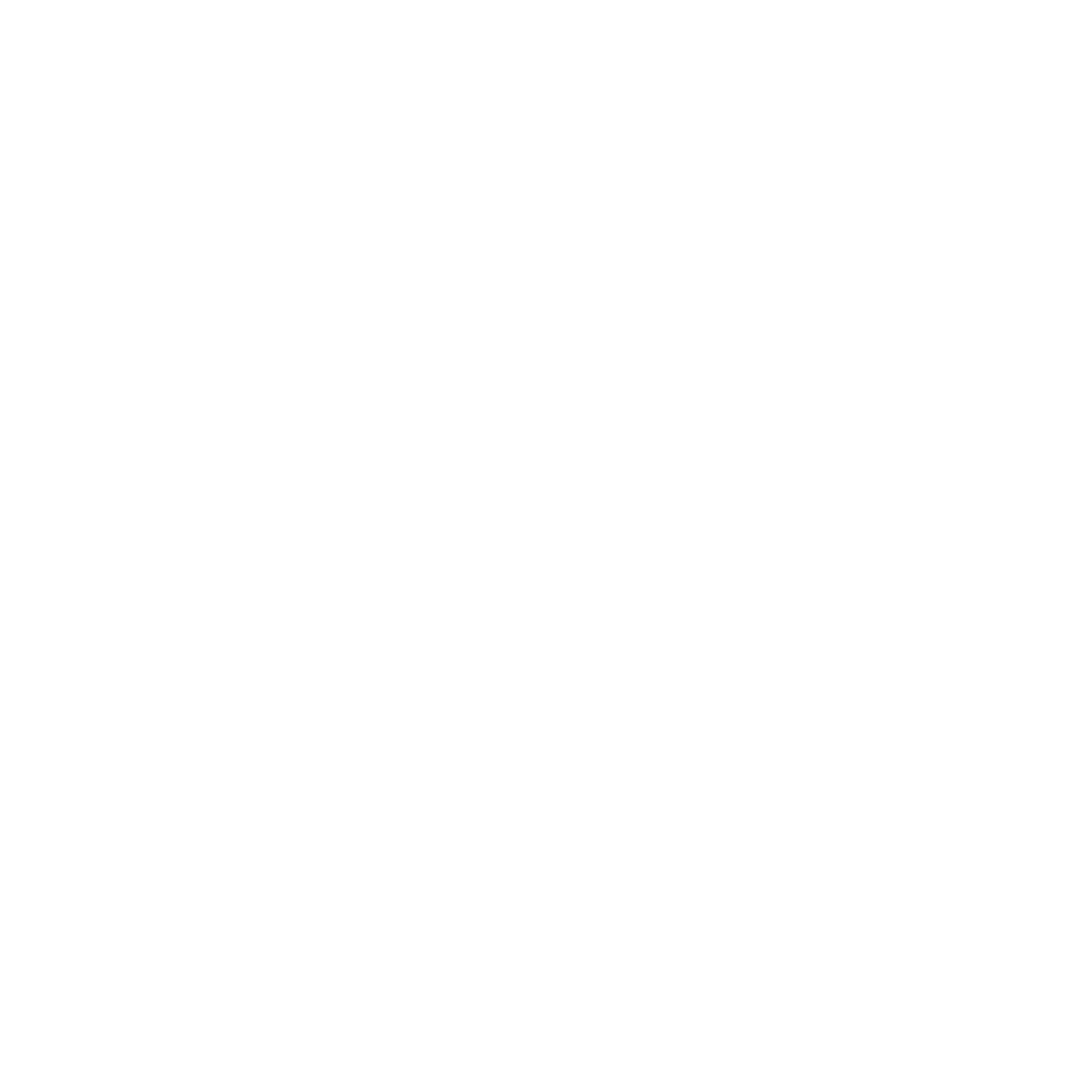
Предложение Дэвида привело к меня к исследованиям билингвальности (Burck, 2004; Hamers & Blanc, 2003; Makoni& Pennycook, 2007; Sommer, 2003, 2004), изучению трудов по переводам (Biguenet & Schulte, 1989; Budick & Iser, 1996; Eco, 2008; Scott, 2000, 2003; Venuti, 1998), а на персональном уровне — к пересмотру смысла своей Колумбий-ности. Теперь у меня была аутоэтнографическая позиция, из которой я могла исследовать и понимать то, что казалось мне столь сбивающим с толку и даже парадоксальным.
Это осмысление стало даже более значимым, когда я начала переводить книгу Майкла Уайта «Карты нарративной практики» (2007) с английского на испанский. Сам процесс стал для меня трансформирующим и обновляющим мои отношения с родной культурой. Через «исследование» возможных нарративных колумбийский терминов, мне приходилось погружаться в мой испанский язык и культуру. Теперь, оказавшись в диаспоре, я стала понимать, что Колумбия, которой я хотела представить нарративные идеи, отличается от Колумбии, которую я покинула много лет назад. Жизнь внутри сконструированного английским мира и этот переводческий процесс (вместе с аутоэтнографической точкой зрения на мой опыт) обновили моё чувство колумбий-ности. Я сама чувствовала себя обновлённой. Моё представление о Колумбии как пространстве, полном преступности, киднеппинга, наркотиков, бедности и жестокости было обогащено и обновлено встающими рядом запахами колумбийских лесов, вкусом местной еды, ритмами музыки, реальностями, созданными писателями этой страны, и её душевными идеологиями выживания, надежды и солидарности. В свою очередь, это новое понимание стало источником вдохновения для расцвета испанского словаря нарративной терапии; так поэт вдохновляется сырым материалом жизни, чтобы создавать свои стихотворения.
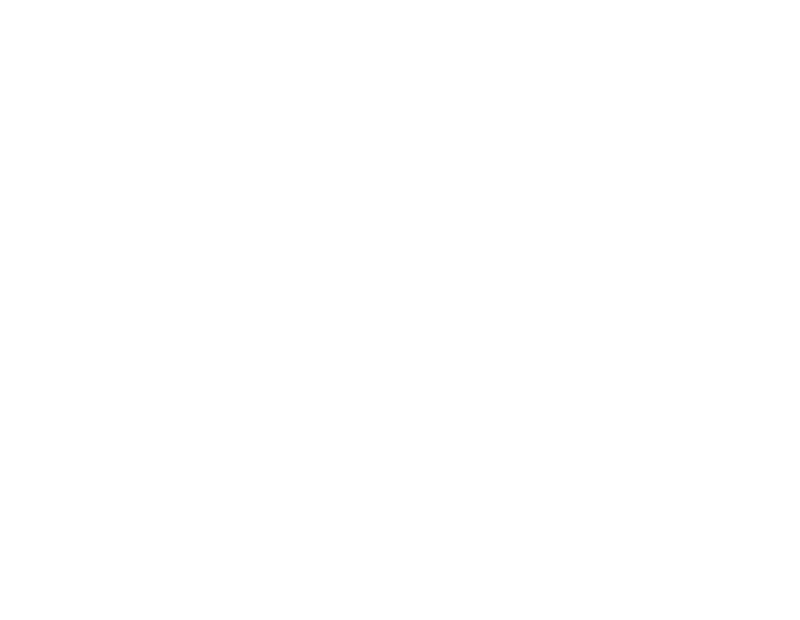
Языки приобретают новые «привкусы»
У английского есть законная монополия на нарративную терапию, поскольку в каком-то смысле она в нём «выросла». Однако по мере того как нарративная терапия и соответствующие ей тексты были переведены внутрь других лингвистических миров — в моём случае внутрь испанского — вместе с языком-источником законными стали и целевые языки.
Схоже с опытом миграции, когда мне пришлось научиться жить в двух разных языковых мирах (что иногда было очень неприятно), любой перевод нарративной терапии сперва проходит через миграцию из одного «мира» в «другой», а затем осваивается в этом новом мире — пытается ассимилироваться, чтобы в какой-то момент в будущем снова «устремиться домой».
После изначального приглашения Дэвида мы переписывались по поводу нашего общего интереса в исследовании сложностей перевода нарративной терапии на другие языки/культуры, и особенно — по поводу её миграции из английского в испанский, превращении из английской нарративной терапии в испанскую terapia narrativa. Опираясь на свой опыт путешествий через языки, я стала лучше понимать лингвистическую применимость билингвальности. Я увидела, что аспекты любого мира, сконструированные конкретными словарями, на других языках могут быть названы и сконструированы иначе. Я словно впервые полностью поняла, что у каждого языка есть «своё сознание».
Бахтин предполагает, что языки обретают свой особенный «привкус» в соответствии с контекстом, в котором они обитают:
Схоже с опытом миграции, когда мне пришлось научиться жить в двух разных языковых мирах (что иногда было очень неприятно), любой перевод нарративной терапии сперва проходит через миграцию из одного «мира» в «другой», а затем осваивается в этом новом мире — пытается ассимилироваться, чтобы в какой-то момент в будущем снова «устремиться домой».
После изначального приглашения Дэвида мы переписывались по поводу нашего общего интереса в исследовании сложностей перевода нарративной терапии на другие языки/культуры, и особенно — по поводу её миграции из английского в испанский, превращении из английской нарративной терапии в испанскую terapia narrativa. Опираясь на свой опыт путешествий через языки, я стала лучше понимать лингвистическую применимость билингвальности. Я увидела, что аспекты любого мира, сконструированные конкретными словарями, на других языках могут быть названы и сконструированы иначе. Я словно впервые полностью поняла, что у каждого языка есть «своё сознание».
Бахтин предполагает, что языки обретают свой особенный «привкус» в соответствии с контекстом, в котором они обитают:
У всех слов есть «привкус» профессии, жанра, тенденций, торжества, конкретной работы, конкретного человека, поколения, возрастной группы, дня и часа. Каждое слово имеет привкус контекста и контекстов, в которых оно жило свою социально наполненную жизнь; все слова и формы насыщены намерениями (Bakhtin, 1981, pp.293–294)
При переводе нарративной практики в новый контекст — контекст колумбийской культуры — её словарь обретает новый привкус, а значит и новую жизнь. Английский словарь нарративной терапии в переводе на испанский становится колумбианизированным по мере того, как слова и концепции маринуются в особенностях новой культуры.
Гадамер (1995) придерживался схожей позиции:
Гадамер (1995) придерживался схожей позиции:
...словесное устройство мира далеко от идеи, что мужские (и женские) отношения с миром заключены внутри словесно схематизированной окружающей среды. Наоборот, пока языки мужчин (и женщин) существуют, существует и свобода от подчинённости миру; и более того — эта свобода от окружающей среды есть свобода в отношении названий, которые мы даём предметам (p.441).
Мы это понимаем таким образом, что нарративная терапия не ограничена языком, в котором она «выросла» (т. е. австралийским/новозеландским английским). Скорее, по нашему мнению, испанская terapia narrativa может вырваться на свободу от любых ограничений через свою аккультурацию в новом лингвистическом контексте практики.
Как начинающий практик, я (марсела) решила разместить себя в пространстве лингвистической про-межуточ-ности — отходя от знакомых английских терминов нарративной терапии и постепенно вливая их в колумбийскую культуру. Это было мне ближе, чем осуществлять буквальный перевод, предполагавший процесс «поиска» других возможных названий, которые могли лучше передать «дух» конкретных нарративных практик. Мы думали над этим снова и снова, и сейчас в этом процесс к нам присоединились другие «переводчики» (Kutuzova, Savelieva & Polanco, 2008).
Как начинающий практик, я (марсела) решила разместить себя в пространстве лингвистической про-межуточ-ности — отходя от знакомых английских терминов нарративной терапии и постепенно вливая их в колумбийскую культуру. Это было мне ближе, чем осуществлять буквальный перевод, предполагавший процесс «поиска» других возможных названий, которые могли лучше передать «дух» конкретных нарративных практик. Мы думали над этим снова и снова, и сейчас в этом процесс к нам присоединились другие «переводчики» (Kutuzova, Savelieva & Polanco, 2008).
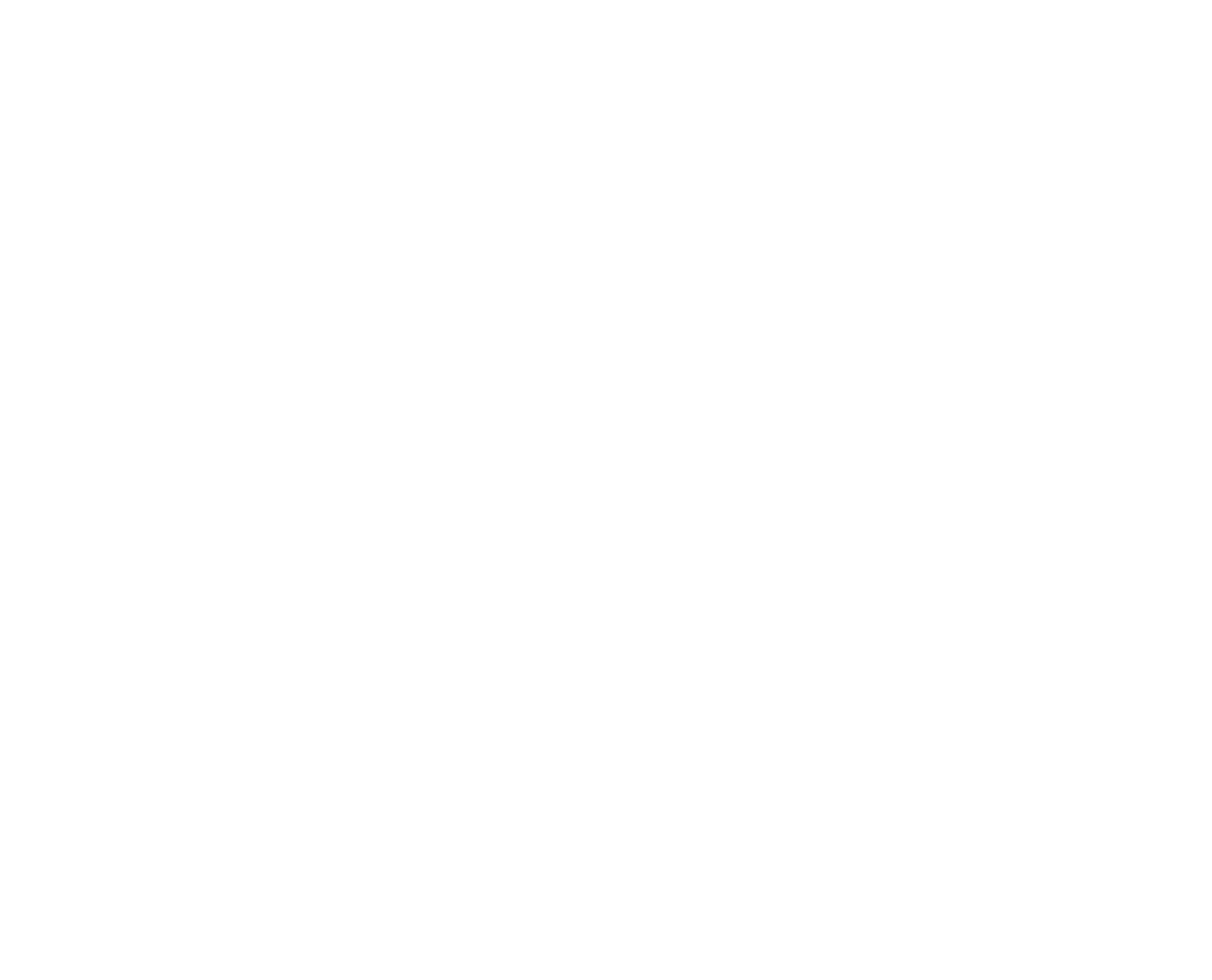
Создавая новые словари
У билингвизма есть давняя традиция использования свойств языков свободно и игриво путешествовать туда-обратно через свои границы. Благодаря этим свойствам билингвальность выбирается из «тюремной камеры языка» (Sommer, 2004) и обходит «стражников» колониальных, научных и экспертных дискурсов, претендующих на владение истинным объективным знанием миров, по отношению к которым они мыслят себя суверенными. Находясь в двух или более культурно определённых языках, каждый из которых обладает своей грамматикой, правилами и стандартами, билингвальность даёт шанс на жизнь за пределами любой конкретной монолингвальности, шанс представить и населить мир полилингвальности.
Как пишет Sommer (2004):
Как пишет Sommer (2004):
Если известную вещь можно обозначить более, чем одним словом, то этот избыток показывает, что ни одно слово не может владеть этой вещью или быть ею...Слова недостаточны и не остаются неизменными. Они перемещаются в соседние языковые области, теряются в переводе, прогибаются под иностранным вторжением и таким образом не могут обозначать того, о чём говорят (p.XIX)
Билингвальность предлагает игривые подходы к языку, тем самым увеличивая множество возможных значений, существующих внутри слов. Для билингвов события и вещи не просто называются словами на бумаге, словами из словарей. Мы создаем новые названия, смешивая языки и заимствуя из них акценты и грамматические правила. Например, в том, что стало известно как спанглиш, lunchear используется в качестве «обедать» вместо испанского almorzar, carpetaобозначает carpet (ковёр) вместо tapete, letra – letter (письмо) вместо carta. В то же время мы свободно конструируем новые слова внутри «английского». Например, если вещи режут, они становятся резаками вместо ножей, если проделывают дыры — дыроделами вместо дыроколов, если еда не органическая, её называют фальшивой (а не обработанной).
Билингвы также становятся адептами построения мостов над пропастью, открывающейся в диалогах между людьми, говорящими на разных языках. Как замечает Sommer (2004), мы… «...[вслушиваемся] в сюрпризы, когда один язык вмешивается в другой» (p. XI). Более того, сближаясь, языки «начинают играть друг с другом» (p.69). По мере того, как мы постоянно сталкиваемся с этими сюрпризами и играми, для участия в этих играх билингвальность предлагает нам серьёзно воспринимать слова. Strong (2006) использует термин «словотворчество», чтобы показать, что «слова могут быть использованы творчески теми способами, которые пока не заключены в жёсткие дескриптивные значения» (p.252). Это означает, что мы можем приглашать говорящих «обращаться со словами так, чтобы они служили их целям, а не просто держаться за их прежние способы употребления или смыслам» (p.252).
Опыт билингвальности часто включает в себя процесс поиска новых слов, которые лучшим образом могут отобразить культурные ценности. Процесс этого поиска и опыт жизни на двух языках может привести к значительному обновлению и переосмыслению. Таким путём билингвальность оказывается чёткой иллюстрацией диалогических отношений между языками. Эти отношения между языками (каждые из которых «пропитаны культурой» [Burck, 2004]) обеспечивают двойные смыслы говорящим в двойных мирах (Sommer, 2004).
Билингвы также становятся адептами построения мостов над пропастью, открывающейся в диалогах между людьми, говорящими на разных языках. Как замечает Sommer (2004), мы… «...[вслушиваемся] в сюрпризы, когда один язык вмешивается в другой» (p. XI). Более того, сближаясь, языки «начинают играть друг с другом» (p.69). По мере того, как мы постоянно сталкиваемся с этими сюрпризами и играми, для участия в этих играх билингвальность предлагает нам серьёзно воспринимать слова. Strong (2006) использует термин «словотворчество», чтобы показать, что «слова могут быть использованы творчески теми способами, которые пока не заключены в жёсткие дескриптивные значения» (p.252). Это означает, что мы можем приглашать говорящих «обращаться со словами так, чтобы они служили их целям, а не просто держаться за их прежние способы употребления или смыслам» (p.252).
Опыт билингвальности часто включает в себя процесс поиска новых слов, которые лучшим образом могут отобразить культурные ценности. Процесс этого поиска и опыт жизни на двух языках может привести к значительному обновлению и переосмыслению. Таким путём билингвальность оказывается чёткой иллюстрацией диалогических отношений между языками. Эти отношения между языками (каждые из которых «пропитаны культурой» [Burck, 2004]) обеспечивают двойные смыслы говорящим в двойных мирах (Sommer, 2004).
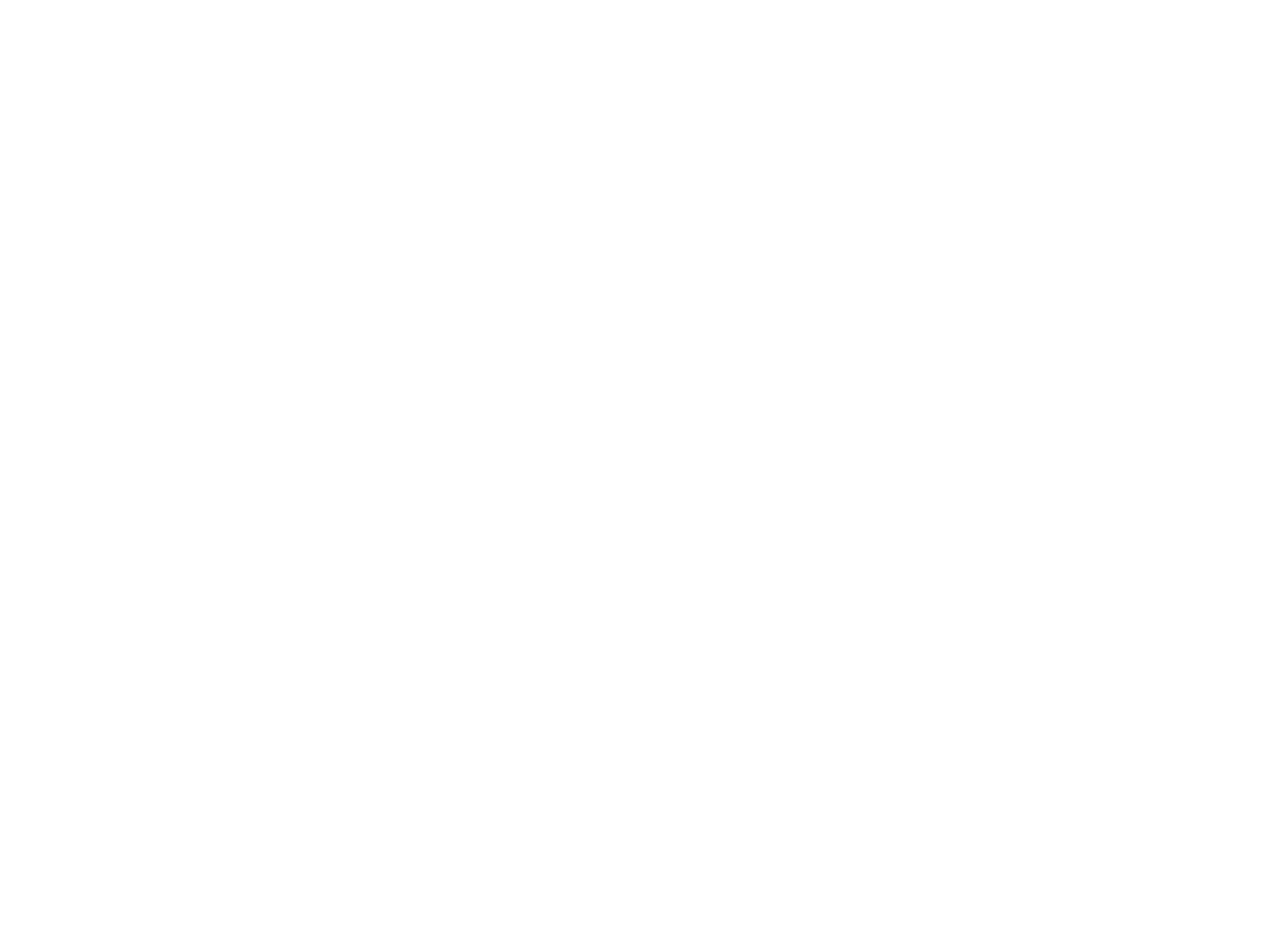
Билингвальность внутри одного языка:
языки и анти-языки
языки и анти-языки
Эти исследования и концепт билингвальности играли для нас огромное значение в переводческих проектах и поисках, как практики нарративной терапии могут мигрировать между культурами. Интересно, что они также оказались способны помогать нам в размышлениях о способах, которыми мы можем использовать язык, когда работаем только на одном (английском или испанском).
Рассматривая отношения языков друг к другу и билингвальных людей — к языку, мы обратили внимание на концепт «анти-языков» (Halliday, 1975) и их формирования. Анти-язык — это язык конкретной социальной группы, который развивается с целью оградить эту группу от возможности быть понятой людьми извне. Они могут использовать ту же грамматику и словарь, но в «неортодоксальной» манере, с помощью релексикализации. Эти языки переизобретаются с целью лучшего отображения намерений людей, связанных с их жизнью. Анти-языки — это «языки-внутри-языков» (Lock, et al. 2005, p.322), которые состоят из контр-культурного набора дискурсивных практик (Epston, 2008). Когда мы обращаем внимание на анти-языки, становится возможным описать билингвальность внутри одного языка.
Эта точка зрения на билингвальность внутри одного языка была адаптирована в работе с теми, кто столкнулся с анорексией и булимией. Maisel et al. (2004) и Epston (2008) сформировали новую манеру говорения об анорексии с помощью использования языка анти-а/б (анти-анорексии и булимии) при беседе, которая в их случае протекала только на английском:
Рассматривая отношения языков друг к другу и билингвальных людей — к языку, мы обратили внимание на концепт «анти-языков» (Halliday, 1975) и их формирования. Анти-язык — это язык конкретной социальной группы, который развивается с целью оградить эту группу от возможности быть понятой людьми извне. Они могут использовать ту же грамматику и словарь, но в «неортодоксальной» манере, с помощью релексикализации. Эти языки переизобретаются с целью лучшего отображения намерений людей, связанных с их жизнью. Анти-языки — это «языки-внутри-языков» (Lock, et al. 2005, p.322), которые состоят из контр-культурного набора дискурсивных практик (Epston, 2008). Когда мы обращаем внимание на анти-языки, становится возможным описать билингвальность внутри одного языка.
Эта точка зрения на билингвальность внутри одного языка была адаптирована в работе с теми, кто столкнулся с анорексией и булимией. Maisel et al. (2004) и Epston (2008) сформировали новую манеру говорения об анорексии с помощью использования языка анти-а/б (анти-анорексии и булимии) при беседе, которая в их случае протекала только на английском:
В целом, анти-а/б образован верованиями, ценностями и практиками, которые противостоят или сопротивляются а/б, или обеспечивают возможность жить в мире тем способом, какой вызовет сопротивление и желание его подорвать у а/б. Анти-а/б язык и практики побуждают людей ставить под вопрос ценности, обещания, угрозы и правила а/б и приводить свою жизнь в большую гармонию с их собственными ценностями и предпочтениями (Maisel et al. p.76).
Способы описания людьми сложностей, с которыми они приходят на терапию, можно рассматривать как монолингвальный культурный набор слов со своими правилами и грамматикой. С «билингвальной точки зрения» анти-язык — сперва чуждый — может быть последовательно развит с помощью признания сопротивления людей влиянию сложностей и построения новых словарей альтернативной культуры со своими ценностями, верованиями, практиками, традициями и т. д.
Если смотреть такой образом, то нарративная терапия сама по себе входит на «билингвальную» территорию. Путешествуя туда и обратно между «языком проблемы» и «языком анти-проблемы», люди могут узнавать новое о своём предпочитаемом мире и предпочитаемом чувстве идентичности.
С перспективы переводческих исследований, можно смотреть на практики нарративной терапии как на разместившиеся в пограничных землях между языками. Такие пограничные земли являются пространствами, на которых привычные правила и способы регуляции соблюдаются не так, как на своих родных землях. В следующем параграфе этой статьи мы постараемся показать, как я (Марсела) в коллаборации с Дэвидом адаптировала эту точку зрения для работы штатным психологом-нарративным терапевтом в студенческом консультативном центре университета Nova Southeastern, Флорида.
Если смотреть такой образом, то нарративная терапия сама по себе входит на «билингвальную» территорию. Путешествуя туда и обратно между «языком проблемы» и «языком анти-проблемы», люди могут узнавать новое о своём предпочитаемом мире и предпочитаемом чувстве идентичности.
С перспективы переводческих исследований, можно смотреть на практики нарративной терапии как на разместившиеся в пограничных землях между языками. Такие пограничные земли являются пространствами, на которых привычные правила и способы регуляции соблюдаются не так, как на своих родных землях. В следующем параграфе этой статьи мы постараемся показать, как я (Марсела) в коллаборации с Дэвидом адаптировала эту точку зрения для работы штатным психологом-нарративным терапевтом в студенческом консультативном центре университета Nova Southeastern, Флорида.
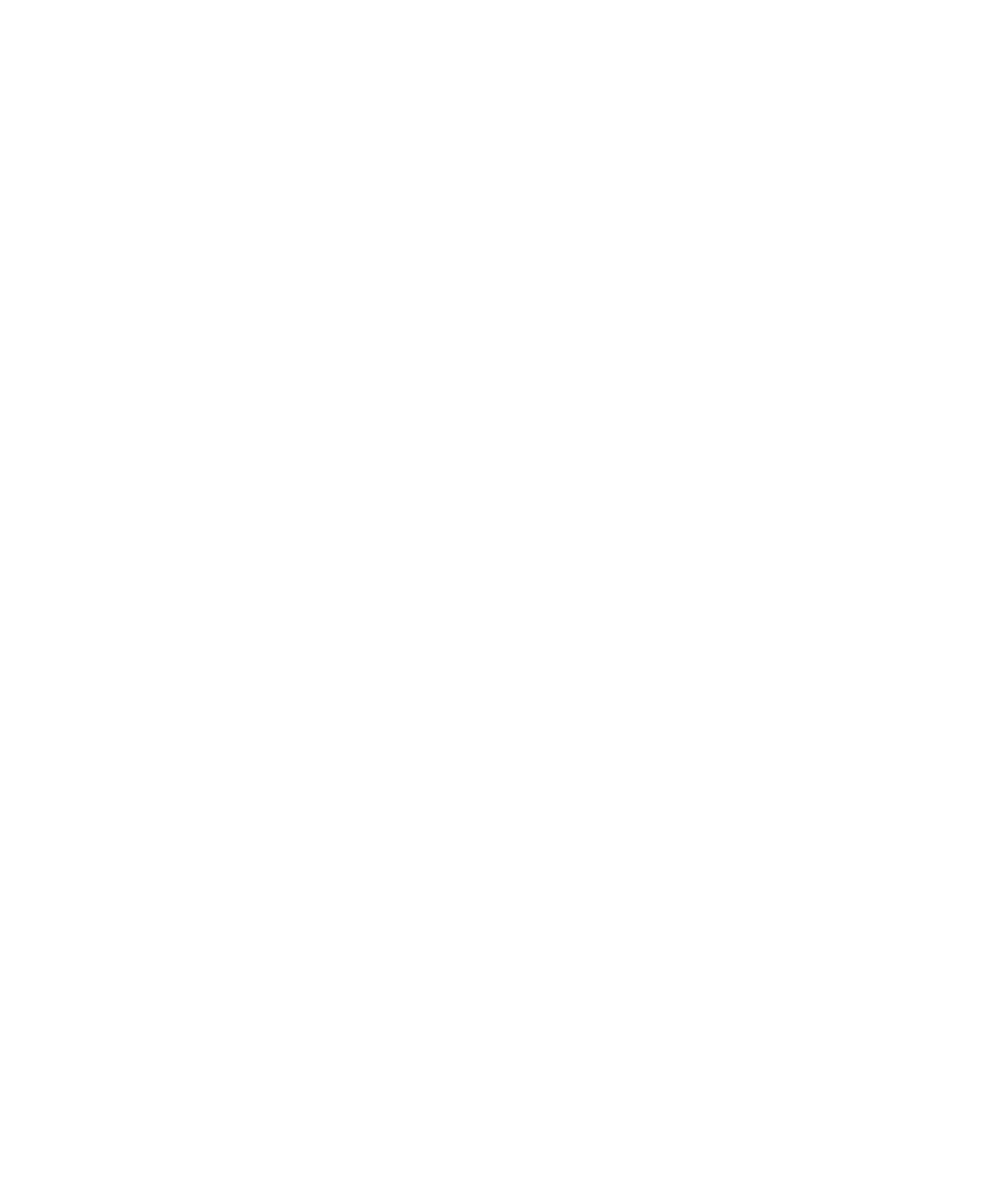
Нарративная практика:
билингвизм и перевод знаемого
билингвизм и перевод знаемого
Слушая описание того, что побудило человека договориться со мной о встрече, я замечаю в этом монолингвальный рассказ, который можно преобразовать в билингвальный и даже мультилингвальный. Опираясь на билингвальную точку зрения, я вслушиваюсь в изначальную историю как имплицитно содержащую в себе двойные смыслы. Эти двойные смыслы позволяют мне задавать вопросы, остраняющие привычный словарь и позволяющие перевести его на анти-словарь. Этот процесс начинается с расспросов, касающихся названия проблем:
Подобные вопросы провоцируют отстранение привычных словарей, тех, что воспринимаются как должное. С опорой на такое отстранение мы можем проявлять любознательность при поиске названия проблемы, и этот процесс порождает билингвальные возможности, а порой и полилингвальные. Через дальнейшие вопросы — как приведённые ниже — может быть сформулировано изначальное название проблемы, которое затем будет переформулировано в «анти-название»:
- После визита к нашему психиатру вы узнали, что вашу сложность можно назвать биполярным расстройством (здесь может быть любой другой диагностический термин). Вы бы хотели использовать это название в нашем сегодняшнем разговоре?
- Если бы вы решили переименовать эту сложность, какие другие названия пришли бы вам в голову? Если вы не против, не могли бы вы поделиться, какие образы приходят к вам в голову, когда вы думаете о новом названии?
- А до встречи с психиатром вы называли эту сложность как-то иначе? Вы помните, какие слова использовали для этого?
- Вы помните обстоятельства или события, в которых начали использовать это слово?
- Был ли кто-то, кто помог этому слову появиться? Или вы прочитали где-то об этом? Это слово появилось в разговоре с кем-то другим? Может быть это что-то, что вы услышали по телевизору или в новостях?
- Среди всех названий, которые вам знакомы, какое кажется вам наиболее подходящим для описания вашей сложности? Или вы теперь думаете, что для вашей сложности нужно какое-то собственное название?
Подобные вопросы провоцируют отстранение привычных словарей, тех, что воспринимаются как должное. С опорой на такое отстранение мы можем проявлять любознательность при поиске названия проблемы, и этот процесс порождает билингвальные возможности, а порой и полилингвальные. Через дальнейшие вопросы — как приведённые ниже — может быть сформулировано изначальное название проблемы, которое затем будет переформулировано в «анти-название»:
- Объясняя свой опыт окружающим, используете ли вы другие слова, выражения или названия, чтобы описать или переименовать изначальный термин?
- Избегали ли вы конкретных слов (обозначений/ярлыков/описаний), которые, на ваш взгляд, могли нести в себе значение, с которым вы не согласны?
- Если бы вы могли опираться на собственные предпочтения в выборе названия из представленных, какое бы вы выбрали, какое лучше может описать то, как вы проживаете этот опыт?
- Как вам кажется, почему вы предпочли это название?
- Как вы думаете, что это название расскажет окружающим о вашем опыте?
- Как вы думаете, смогут ли они получить более глубокое понимание того, через что вы проходите, если вы используете какое-то из других названий?
- Как вы думаете, чем будет отличаться понимание тех, кто предпочитает другое название?
- Как вы думаете, узнают ли они что-то новое, если вы поделитесь с ними своим предпочитаемым названием?
- Как вы думаете, если бы вы решили использовать предпочитаемое название, это бы как-то повлияло на то, что вы знаете о своём опыте или как его понимаете?
- Использование другого названия что-то бы изменило?
- Как вы думаете, может ли использование предпочитаемого названия каким-то образом повлиять на то, как вы смотрите на себя в отношении к этому опыту?
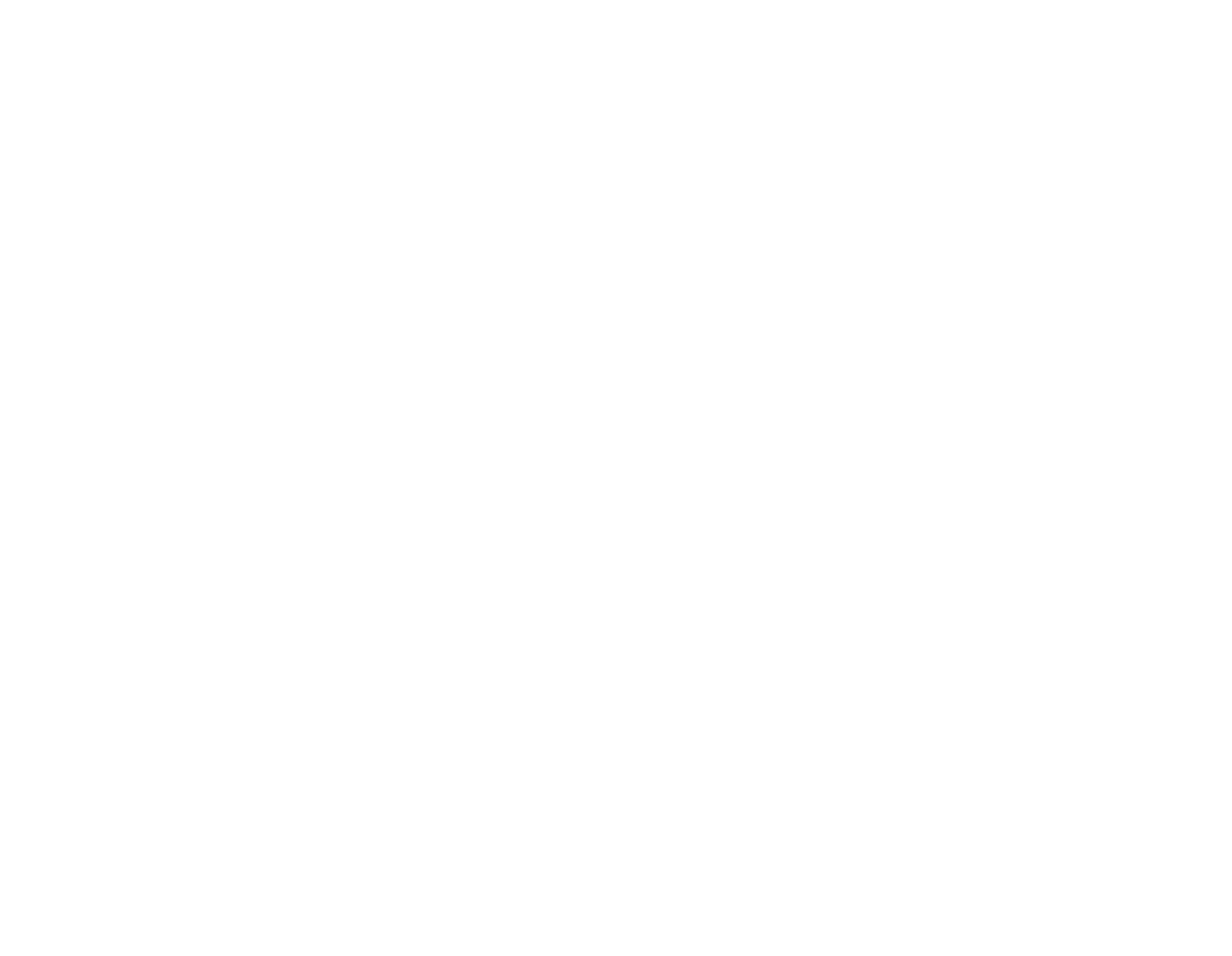
Подобные типы разговоров дают особую возможность тем, кому была навязана психиатрическая терминология или другие тотализирующие названия для описания их сложностей. Довольно часто люди забирают себе такие названия, как «тревожность», «депрессия», «ОКР», «биполярка» в качестве монолингвальной правды о себе. Но становясь участниками «игры» с названиями, эти слова получают новое рассмотрение или пере-осмысляются. Развиваются новые словари, которые лучше отражают ценности человека и его устремления, и это позволяет оказывать сопротивление тотализирующим описаниям. Это переименование носит экспериментальный характер, не требует никаких обязательств, но оставляет возможность для последующих переименований проблемы или сложности при необходимости.
Ставя под вопрос влиятельность оригинального названия, мы высвобождаем опыт человека из-под власти монолингвальности. Появление других потенциальных названий делает возможным развитие анти-языков с новыми словарями. Когда изначально монолингвальная точка зрения переводится в мультилингвальные, открываются новые миры. Новые название помогают приблизиться к «корням», от которых можно двигаться к следующим ветвям расспрашивания. Эти расспросы направлены уже на прояснение того, как люди могут вернуть себе возможность жить предпочитаемой жизнью, высвободить её из-под влияния проблем. Мы проиллюстрируем это примером моего диалога с молодой девушкой Сандрой, чуть старше двадцати лет.
Ставя под вопрос влиятельность оригинального названия, мы высвобождаем опыт человека из-под власти монолингвальности. Появление других потенциальных названий делает возможным развитие анти-языков с новыми словарями. Когда изначально монолингвальная точка зрения переводится в мультилингвальные, открываются новые миры. Новые название помогают приблизиться к «корням», от которых можно двигаться к следующим ветвям расспрашивания. Эти расспросы направлены уже на прояснение того, как люди могут вернуть себе возможность жить предпочитаемой жизнью, высвободить её из-под влияния проблем. Мы проиллюстрируем это примером моего диалога с молодой девушкой Сандрой, чуть старше двадцати лет.
Сандра
Сандра пришла в центр, чтобы встретиться с нашим психиатром и попросить помочь ей с её лекарствами. Она принимала Риталин для лучшей концентрации и сосредоточенности. На своём первом визите Сандра говорила о «множестве травм», которые ей пришлось пережить. Она упоминала насилие и ограбление в юности, рассказывала о других сложностях в жизни, которые ей удалось преодолеть, таких как наркотическая зависимость. Хотя она предполагала, что какие-то остаточные последствия ещё продолжали оказывать влияние на её жизнь, она также считала, что достаточно успешно со всем справилась и не хотела это обсуждать.
Я помогла Сандре назначить встречу с нашим психиатром, и в следующий раз услышала о девушке спустя два месяца, если не больше. Сандра позвонила мне по дороге из общежития в аудиторию, где должна была сдавать промежуточный экзамен. Её сопровождал друг, а она казалась довольно возбуждённой. Она сказала, что только что попала в аварию и чувствовала себя «развалиной».
Девушка говорила, что не знает, как дальше жить. Сандра настояла на том, чтобы всё-таки сдать экзамен, но согласилась сразу после прийти для разговора со мной. Через несколько часов она действительно пришла. Как выяснилось, ей не удавалось выполнить задание, поэтому она ушла с экзамена и направилась в консультативный центр. Она сказала, что искала помощи, потому что сама не знала, что ей делать со своей жизнью. «Моя жизнь такая хреновая...всё против меня».
Сандра сильно переживала о том, что может произойти, если она просто покинет комнату. У неё не было ружья, но она рассматривала возможность его приобрести. Хотя она впервые столкнулась с экзистенциальным фатализмом такой силы, он её не испугал, потому что, как она сказала, «меня больше не волнует моя жизнь». С учётом всего этого в процессе разговора Сандра решила, что лучшим выходом для неё будет согласиться лечь в больницу. Пусть даже её беспокоило, как это повлияет на профессиональное развитие, Сандра думала, что пребывание в больнице даст ей немного времени отдохнуть от обучения и других персональных обязанностей, и вместо этого позволит позаботиться о себе самой (выражение, которое явно противоречило её заявлениям о чувстве беспомощности). С помощью команды центра мы договорились о том, чтобы Сандру отвезли в больницу.
Через две недели Сандра выписалась, и мы встретились снова. Сандра описала больничный опыт как изменивший её жизнь и освободивший её. Столь значимым этот опыт сделали слова докторов, что она страдает от «депрессивного расстройства без дополнительных уточнений». Сперва она не могла объяснить, что изменилось с появлением диагноза, но одним из заметных последствий стало то, что она чувствовала себя спокойнее и более расслабленно. Мне стало интересно, как появившееся у страданий название «депрессивное расстройство» изменило жизнь и подарило освобождающее чувство, как оно смогло оказать успокаивающий и расслабляющий эффект на её жизнь. Я не была удивлена тому, что, похоже, Сандра обрела доступ к новому языку описания своих проблем с освобождающими последствиями; этот язык, кажется, выступал «анти-языком» по отношению к предыдущей монолингвальной точке зрения «жизнь против меня».
Используя некоторые из приведённых выше вопросов и исследуя возможности билингвизации её точки зрения для укрепления сопротивления Сандры экзистенциальному фатализму, я спросила, говорила ли она с кем-то из своих друзей или родственников об опыте пребывания в больнице. В частности, я хотела узнать, делилась ли она с другими тем, что её страдания получили название депрессии. Сандра сказала, что в разговорах с друзьями и родственниками не использовала термин «депрессивное расстройство». Вместо этого она оперировала словом «срыв». Она объяснила это тем, что думала, будто идея расстройства бросит на неё тень, словно с ней что-то не так. Из этого я предположила, что идея «со мной что-то не так» не очень подходила Сандре; и в то же время когда доктора давали название её страданиям, она чувствовала освобождение. Это озадачивало. Для неё было очень значимо, что её страдания были названы как что-то конкретное и постижимое. Это влияло на её жизнь. Она пояснила, что благодаря названию смогла «увидеть» проблему, для неё стало возможным «разместить её в коробочку», где она могла «за ней присматривать». Что более важно, возможность видеть проблему означала также, что Сандра могла «видеть» себя, и это стало для неё «пробуждением». Сандра пробуждалась к идее, что депрессия управляла её жизнью. В её пробуждении я увидела возможность для создания альтернативного словаря, который мог бы лучше описать предпочитаемые ею способы жизни.
Учитывая, как важно было для Сандры дать название своим страданиям, и как это помогло ей лучше понять проблему и себя в отношении к ней, мы продолжили наш разговор в поисках возможных названий, которые смогут более точно описать её опыт страданий. Позже мы также искали названия, которые смогут обозначить её ответы на проблему, какими было продолжение обучение и жизни в целом.
Сандра использовала термин «срыв», но по мере рассмотрения она выбрала другое название для сложности - «Настроение». Сандра рассказывала, что Настроение «принуждало меня жить на высоких скоростях, не давая задуматься об этом». Однако сейчас она поняла, что это не то, какой она предпочитала «видеть» свою жизнь. Чтобы оплатить счета, со времени своего приезда во Флориду год назад, Сандра занималась стриптизом в баре. Сейчас она поняла, что приняла это решение под влиянием власти Настроения; она знала, что могла бы найти другие способы для получения финансовой поддержки. С этим новым знанием Сандра испытала сильное облегчение. Теперь она верила, что сможет забрать свою жизнь у Настроения; это включало в себя возвращение ответственности за собственную жизнь. Забрать эту ответственность означало для Сандры возможность принимать решения в гармонии с тем, что было важно для неё в жизни — обучением, друзьями, отношениями с мамой.
Во время следующей встречи Сандра говорила о действиях, которыми возвращала себе ответственность за свою жизнь. Эти действия противоречили выборам Настроения. Мы продолжали исследовать влияние, которое Настроение оказывало на её жизнь, забирая ответственность за её жизнь, и в ходе этого процесса я спросила у Сандры, продолжает ли ей подходить слово Настроение. После некоторого размышления, Сандра подумала, что лучше подойдёт «Оно». Она позаимствовала это название из своих знаний психоаналитической литературы, что могло принести с собой оттенок интернализации проблем, так что я продолжила расспросы, помогая произойти лингвистическому сдвигу от интернализованного понятия к экстернализованному. Я задала ей вопрос: «Сандра, почему тебе кажется, что «Оно» лучше подойдёт для описания того, что забрало у тебя ответственность за твою жизнь?» Сандра ответила, что «Оно» было хорошим названием для негативной силы, которая заставляла её предпринимать противоречащие её убеждениям, ценностям и представлениям о себе вещи действия: «Это что-то плохое, что принуждает меня делать плохие вещи».
Оно в качестве негативной силы говорило Сандре, что она недостойна жить хорошую жизнь. Вместо этого, настаивало Оно, она обречена жить «хреновую» и «нездоровую» жизнь, полную алкоголя, безрассудств по отношению к себе и изоляции себя от других. Для Сандры идея жизни, предложенной Оно, поддерживалась тем, что она описывала как травматические события из прошлого — её опытом столкновения с насилием, ограблением, грубым обращением. Говоря об этом, Сандра пришла к заключению, что Оно было уверено, что она проводит свою жизнь как «чокнутая». К этому времени Сандра рассказала мне, что между встречами её арестовали за вождение в нетрезвом виде. Она опрокинула два бокала после работы, и её остановили за превышение скорости. Сандра сперва подумала, что добавит этот эпизод к заключениям Оно о её «хреновой» жизни, но вместо этого выбрала согласиться с причинами для ареста, позвонила другу, чтобы тот внёс за неё залог, и сделала шаги к тому, чтобы взять на себя ответственность за свои действия. Она согласилась и с тем, что эти действия уже не принадлежали миру Оно.
Мы встретились снова спустя две недели — в шестой и последний раз. Сандра сказала мне, что всё «идёт хорошо», и мы поисследовали её ощущение благополучия. Сандра описала, как она продолжала чувствовать себя более расслабленной и спокойной, её желание поддерживать связь с другими людьми вернулось. Она активнее общалась со своими одноклассниками, чтобы «расширить сеть поддержки», и это приносило серьёзные изменения. Расширяя сеть поддержки, она противостояла навязанным Оно правилам изоляции. Мне стало любопытно, что это говорило о том, что для неё важно. Для Сандры было очевидным, что для неё важна жизнь. Я спросила, была ли эта инициатива частью высвобождения собственной ответственности из-под власти Оно, и она сказала, что да. Было ясно, что Сандра находит себе помощников, которые помогут ей в этом процессе возвращения ответственности за свою жизнь. Я подумала, что у этой инициативы может быть свой собственный словарь. Чтобы вдохнуть новую жизнь в словарь анти-Оно и таким образом билингвизировать её знание, мы начали искать названия для навыков или знаний Сандры, которые помогали ей предпринимать шаги в сторону поддержки важности своей жизни.
Сандра знала, что за опытом насилия, ограбления, жестокого обращения и преодоления анорексии должна быть история отстаивания своей жизни, которая позволила ей теперь проходить обучение (обучение было очень значимым для неё). Когда мы оглянулись на прошлое и узнали больше о том, как Сандра справлялась с этими сложностями, Оно получило ещё одно название: «Травма».
Сандра подумала, что Травма станет хорошим названием для её прошлых страданий; к этому моменту она стала смотреть на себя как на «бойца», который смог противостоять намерениям Травмы на её жизнь. Сандра сказала, что нужно быть бойцом, чтобы выпуститься из университета. Оглядываясь на своё прошлое, Сандра пришла к заключению, что сопротивлялась Травме ради собственной жизни. Она вспомнила радостные моменты, когда ещё девочкой играла с другими детьми, и эти эпизоды говорили о её несогласии с Травмой: «может быть я знала, что достойна чего-то лучшего». Сандра назвала свои инициативы против травмы «Выживанием». «Выживание» привело Сандру к получению образования после того, как она выбрала следовать идее принести что-то значимое в этот мир. Даже в трудные времена она не отказалась от обучения. Это помогло нам лучше понять почему, когда Сандра в стрессовом состоянии позвонила мне несколько недель назад, она выбрала пойти не в центр, а на экзамен. Выживание привело Сандру и к дружбе с людьми, которые всегда были рядом.
Теперь, с билингвальной точки зрения «Выживания» (анти-название для Настроения/Оно/Травмы), Сандра смогла найти «другой взгляд на жизнь». «Выживание» делало видимой территорию идентичности, которая отличалась от «хреново» и «нездорово». Как билингв, Сандра теперь могла путешествовать от одного языка к другому и обратно — от очерченной одним языком жизни (Настроение/Оно/Травма) к очерченной другим языком (Выживание). И также она могла находиться между ними. Когда я спросила Сандру, каково ей будет находиться в пространстве между пониманиями жизни, предлагаемыми «Настроением» и «Выживанием», она сказала, что сможет «сверяться» с собственной жизнью и «оценивать», какое понимание и до какой степени влияет на её действия. Она подумала, что это позволит ей предпринимать ответственные действия, которые бы соответствовали её надеждам принести в общество изменения. Сандра планировала воспользоваться поддержкой друзей в сверке, поскольку она рассказала им о своих надеждах касательно обучения, и они могли в добром и уважительном ключе присоединиться к ней в этой оценке и давать ей «обратную связь».
После этой завершающей встречи Сандра продолжила посещать центр для встреч с нашим штатным психиатром, который отвечал за её лекарства. Она также пришла спустя год после нашей последней встречи к другому специалисту для сеанса гипноза, который бы помог ей лучше спать по ночам. Когда мы пересеклись, она сказала, что «удерживает себя на пути». Она также рассказала, насколько серьёзно улучшились её отношения с матерью.
Сандра пришла в центр, чтобы встретиться с нашим психиатром и попросить помочь ей с её лекарствами. Она принимала Риталин для лучшей концентрации и сосредоточенности. На своём первом визите Сандра говорила о «множестве травм», которые ей пришлось пережить. Она упоминала насилие и ограбление в юности, рассказывала о других сложностях в жизни, которые ей удалось преодолеть, таких как наркотическая зависимость. Хотя она предполагала, что какие-то остаточные последствия ещё продолжали оказывать влияние на её жизнь, она также считала, что достаточно успешно со всем справилась и не хотела это обсуждать.
Я помогла Сандре назначить встречу с нашим психиатром, и в следующий раз услышала о девушке спустя два месяца, если не больше. Сандра позвонила мне по дороге из общежития в аудиторию, где должна была сдавать промежуточный экзамен. Её сопровождал друг, а она казалась довольно возбуждённой. Она сказала, что только что попала в аварию и чувствовала себя «развалиной».
Девушка говорила, что не знает, как дальше жить. Сандра настояла на том, чтобы всё-таки сдать экзамен, но согласилась сразу после прийти для разговора со мной. Через несколько часов она действительно пришла. Как выяснилось, ей не удавалось выполнить задание, поэтому она ушла с экзамена и направилась в консультативный центр. Она сказала, что искала помощи, потому что сама не знала, что ей делать со своей жизнью. «Моя жизнь такая хреновая...всё против меня».
Сандра сильно переживала о том, что может произойти, если она просто покинет комнату. У неё не было ружья, но она рассматривала возможность его приобрести. Хотя она впервые столкнулась с экзистенциальным фатализмом такой силы, он её не испугал, потому что, как она сказала, «меня больше не волнует моя жизнь». С учётом всего этого в процессе разговора Сандра решила, что лучшим выходом для неё будет согласиться лечь в больницу. Пусть даже её беспокоило, как это повлияет на профессиональное развитие, Сандра думала, что пребывание в больнице даст ей немного времени отдохнуть от обучения и других персональных обязанностей, и вместо этого позволит позаботиться о себе самой (выражение, которое явно противоречило её заявлениям о чувстве беспомощности). С помощью команды центра мы договорились о том, чтобы Сандру отвезли в больницу.
Через две недели Сандра выписалась, и мы встретились снова. Сандра описала больничный опыт как изменивший её жизнь и освободивший её. Столь значимым этот опыт сделали слова докторов, что она страдает от «депрессивного расстройства без дополнительных уточнений». Сперва она не могла объяснить, что изменилось с появлением диагноза, но одним из заметных последствий стало то, что она чувствовала себя спокойнее и более расслабленно. Мне стало интересно, как появившееся у страданий название «депрессивное расстройство» изменило жизнь и подарило освобождающее чувство, как оно смогло оказать успокаивающий и расслабляющий эффект на её жизнь. Я не была удивлена тому, что, похоже, Сандра обрела доступ к новому языку описания своих проблем с освобождающими последствиями; этот язык, кажется, выступал «анти-языком» по отношению к предыдущей монолингвальной точке зрения «жизнь против меня».
Используя некоторые из приведённых выше вопросов и исследуя возможности билингвизации её точки зрения для укрепления сопротивления Сандры экзистенциальному фатализму, я спросила, говорила ли она с кем-то из своих друзей или родственников об опыте пребывания в больнице. В частности, я хотела узнать, делилась ли она с другими тем, что её страдания получили название депрессии. Сандра сказала, что в разговорах с друзьями и родственниками не использовала термин «депрессивное расстройство». Вместо этого она оперировала словом «срыв». Она объяснила это тем, что думала, будто идея расстройства бросит на неё тень, словно с ней что-то не так. Из этого я предположила, что идея «со мной что-то не так» не очень подходила Сандре; и в то же время когда доктора давали название её страданиям, она чувствовала освобождение. Это озадачивало. Для неё было очень значимо, что её страдания были названы как что-то конкретное и постижимое. Это влияло на её жизнь. Она пояснила, что благодаря названию смогла «увидеть» проблему, для неё стало возможным «разместить её в коробочку», где она могла «за ней присматривать». Что более важно, возможность видеть проблему означала также, что Сандра могла «видеть» себя, и это стало для неё «пробуждением». Сандра пробуждалась к идее, что депрессия управляла её жизнью. В её пробуждении я увидела возможность для создания альтернативного словаря, который мог бы лучше описать предпочитаемые ею способы жизни.
Учитывая, как важно было для Сандры дать название своим страданиям, и как это помогло ей лучше понять проблему и себя в отношении к ней, мы продолжили наш разговор в поисках возможных названий, которые смогут более точно описать её опыт страданий. Позже мы также искали названия, которые смогут обозначить её ответы на проблему, какими было продолжение обучение и жизни в целом.
Сандра использовала термин «срыв», но по мере рассмотрения она выбрала другое название для сложности - «Настроение». Сандра рассказывала, что Настроение «принуждало меня жить на высоких скоростях, не давая задуматься об этом». Однако сейчас она поняла, что это не то, какой она предпочитала «видеть» свою жизнь. Чтобы оплатить счета, со времени своего приезда во Флориду год назад, Сандра занималась стриптизом в баре. Сейчас она поняла, что приняла это решение под влиянием власти Настроения; она знала, что могла бы найти другие способы для получения финансовой поддержки. С этим новым знанием Сандра испытала сильное облегчение. Теперь она верила, что сможет забрать свою жизнь у Настроения; это включало в себя возвращение ответственности за собственную жизнь. Забрать эту ответственность означало для Сандры возможность принимать решения в гармонии с тем, что было важно для неё в жизни — обучением, друзьями, отношениями с мамой.
Во время следующей встречи Сандра говорила о действиях, которыми возвращала себе ответственность за свою жизнь. Эти действия противоречили выборам Настроения. Мы продолжали исследовать влияние, которое Настроение оказывало на её жизнь, забирая ответственность за её жизнь, и в ходе этого процесса я спросила у Сандры, продолжает ли ей подходить слово Настроение. После некоторого размышления, Сандра подумала, что лучше подойдёт «Оно». Она позаимствовала это название из своих знаний психоаналитической литературы, что могло принести с собой оттенок интернализации проблем, так что я продолжила расспросы, помогая произойти лингвистическому сдвигу от интернализованного понятия к экстернализованному. Я задала ей вопрос: «Сандра, почему тебе кажется, что «Оно» лучше подойдёт для описания того, что забрало у тебя ответственность за твою жизнь?» Сандра ответила, что «Оно» было хорошим названием для негативной силы, которая заставляла её предпринимать противоречащие её убеждениям, ценностям и представлениям о себе вещи действия: «Это что-то плохое, что принуждает меня делать плохие вещи».
Оно в качестве негативной силы говорило Сандре, что она недостойна жить хорошую жизнь. Вместо этого, настаивало Оно, она обречена жить «хреновую» и «нездоровую» жизнь, полную алкоголя, безрассудств по отношению к себе и изоляции себя от других. Для Сандры идея жизни, предложенной Оно, поддерживалась тем, что она описывала как травматические события из прошлого — её опытом столкновения с насилием, ограблением, грубым обращением. Говоря об этом, Сандра пришла к заключению, что Оно было уверено, что она проводит свою жизнь как «чокнутая». К этому времени Сандра рассказала мне, что между встречами её арестовали за вождение в нетрезвом виде. Она опрокинула два бокала после работы, и её остановили за превышение скорости. Сандра сперва подумала, что добавит этот эпизод к заключениям Оно о её «хреновой» жизни, но вместо этого выбрала согласиться с причинами для ареста, позвонила другу, чтобы тот внёс за неё залог, и сделала шаги к тому, чтобы взять на себя ответственность за свои действия. Она согласилась и с тем, что эти действия уже не принадлежали миру Оно.
Мы встретились снова спустя две недели — в шестой и последний раз. Сандра сказала мне, что всё «идёт хорошо», и мы поисследовали её ощущение благополучия. Сандра описала, как она продолжала чувствовать себя более расслабленной и спокойной, её желание поддерживать связь с другими людьми вернулось. Она активнее общалась со своими одноклассниками, чтобы «расширить сеть поддержки», и это приносило серьёзные изменения. Расширяя сеть поддержки, она противостояла навязанным Оно правилам изоляции. Мне стало любопытно, что это говорило о том, что для неё важно. Для Сандры было очевидным, что для неё важна жизнь. Я спросила, была ли эта инициатива частью высвобождения собственной ответственности из-под власти Оно, и она сказала, что да. Было ясно, что Сандра находит себе помощников, которые помогут ей в этом процессе возвращения ответственности за свою жизнь. Я подумала, что у этой инициативы может быть свой собственный словарь. Чтобы вдохнуть новую жизнь в словарь анти-Оно и таким образом билингвизировать её знание, мы начали искать названия для навыков или знаний Сандры, которые помогали ей предпринимать шаги в сторону поддержки важности своей жизни.
Сандра знала, что за опытом насилия, ограбления, жестокого обращения и преодоления анорексии должна быть история отстаивания своей жизни, которая позволила ей теперь проходить обучение (обучение было очень значимым для неё). Когда мы оглянулись на прошлое и узнали больше о том, как Сандра справлялась с этими сложностями, Оно получило ещё одно название: «Травма».
Сандра подумала, что Травма станет хорошим названием для её прошлых страданий; к этому моменту она стала смотреть на себя как на «бойца», который смог противостоять намерениям Травмы на её жизнь. Сандра сказала, что нужно быть бойцом, чтобы выпуститься из университета. Оглядываясь на своё прошлое, Сандра пришла к заключению, что сопротивлялась Травме ради собственной жизни. Она вспомнила радостные моменты, когда ещё девочкой играла с другими детьми, и эти эпизоды говорили о её несогласии с Травмой: «может быть я знала, что достойна чего-то лучшего». Сандра назвала свои инициативы против травмы «Выживанием». «Выживание» привело Сандру к получению образования после того, как она выбрала следовать идее принести что-то значимое в этот мир. Даже в трудные времена она не отказалась от обучения. Это помогло нам лучше понять почему, когда Сандра в стрессовом состоянии позвонила мне несколько недель назад, она выбрала пойти не в центр, а на экзамен. Выживание привело Сандру и к дружбе с людьми, которые всегда были рядом.
Теперь, с билингвальной точки зрения «Выживания» (анти-название для Настроения/Оно/Травмы), Сандра смогла найти «другой взгляд на жизнь». «Выживание» делало видимой территорию идентичности, которая отличалась от «хреново» и «нездорово». Как билингв, Сандра теперь могла путешествовать от одного языка к другому и обратно — от очерченной одним языком жизни (Настроение/Оно/Травма) к очерченной другим языком (Выживание). И также она могла находиться между ними. Когда я спросила Сандру, каково ей будет находиться в пространстве между пониманиями жизни, предлагаемыми «Настроением» и «Выживанием», она сказала, что сможет «сверяться» с собственной жизнью и «оценивать», какое понимание и до какой степени влияет на её действия. Она подумала, что это позволит ей предпринимать ответственные действия, которые бы соответствовали её надеждам принести в общество изменения. Сандра планировала воспользоваться поддержкой друзей в сверке, поскольку она рассказала им о своих надеждах касательно обучения, и они могли в добром и уважительном ключе присоединиться к ней в этой оценке и давать ей «обратную связь».
После этой завершающей встречи Сандра продолжила посещать центр для встреч с нашим штатным психиатром, который отвечал за её лекарства. Она также пришла спустя год после нашей последней встречи к другому специалисту для сеанса гипноза, который бы помог ей лучше спать по ночам. Когда мы пересеклись, она сказала, что «удерживает себя на пути». Она также рассказала, насколько серьёзно улучшились её отношения с матерью.
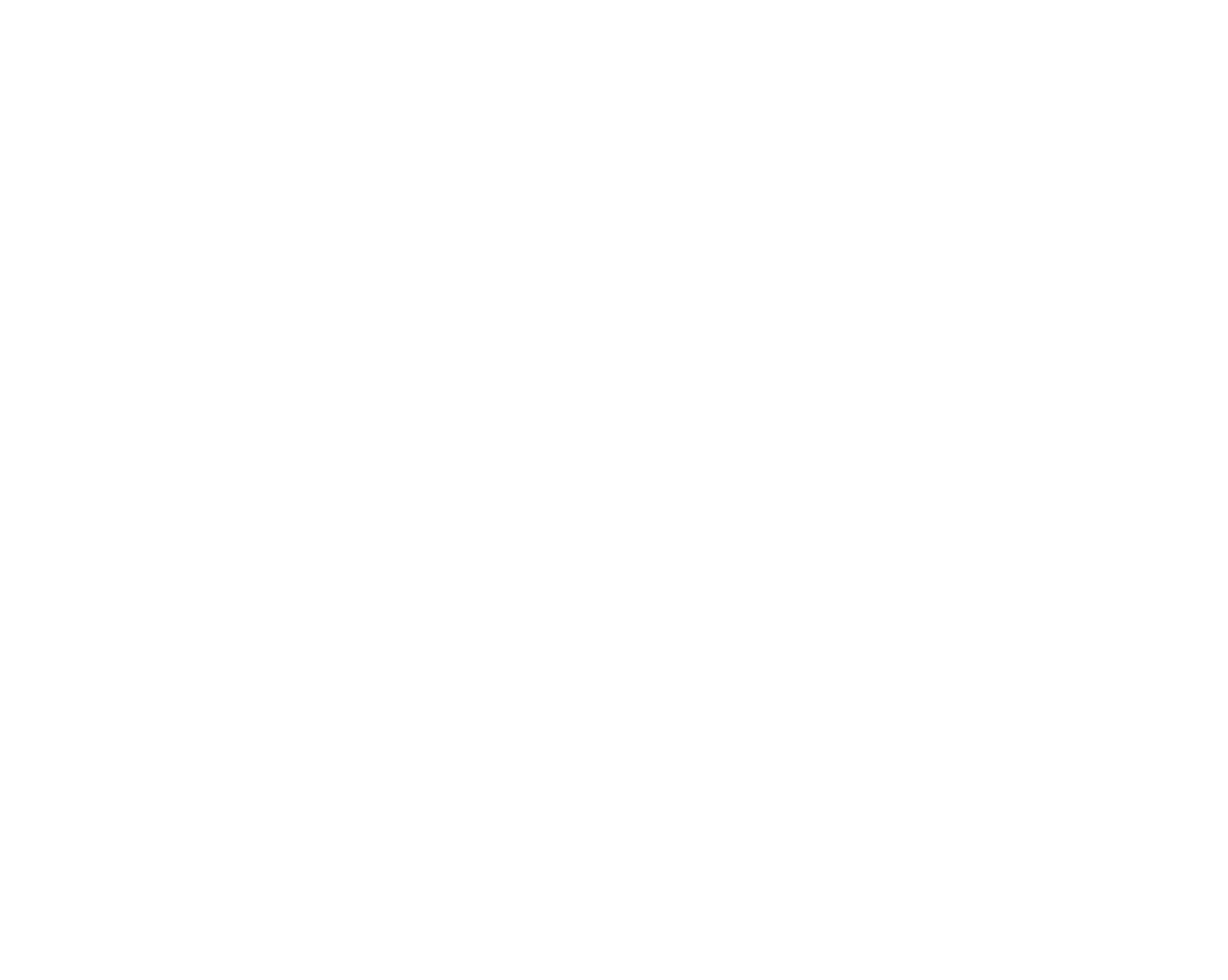
Комментарии
О «родных землях» нарративной терапии было написано многое — в первую очередь «картографами», которые её изобрели, Майклом Уйатом и Дэвидом Эпстоном (1990). И всё же эти родные земли настолько огромны, что невозможно исчерпать все возможные экскурсии по ним. Нарративная терапия всегда в движении. Её транзитные практики и понимания постоянно открывают новые территории, на которых могут быть исследованы самые разнообразные активности. Эта статья раскрывает некоторые истории наших странствий, во время которых мы пересекали границы билингвизма, перевода и нарративных практик.
Исследования перевода и билингвизма делают интересный и полезный вклад в обновление нарративной терапии. По мере того как нарративные идеи мигрируют в новые культуры, мы можем вместо буквального перевода надеяться на диалогические отношения между нарративной терапией (английской) и terapia narrativa (испанской) и т. д., признавать их значимость и создавать их. В процессе этих перемещений родные земли нарративной практики могут быть обогащены, ассимилированы и диверсифицированы.
В то же время внимание к билингвальности или мультилингвальности может повлиять на нашу практику внутри языков. В предложенном в этой статье примере нарративные терапевтические разговоры перемещались сквозь и между таких названий, как Депрессия, Настроение, Оно, Травма и т. д. В этом процессе не происходило унификации пониманий, как это часто происходит в монолингвальных разговорах. Вместо этого мультилингвальность вводила в игру названия в качестве временных конструкций, подверженных обновлению или переосмыслению.
Мы надеемся, нам удалось показать, что перспектива перевода значима не только для традиционных билингвов (тех, кто говорит на таких языках, как испанский, английский, французский и т. д.), но также для монолингвов, которые выбирают участвовать в играх полилингвальности. Хотя в переводе многое может потеряться, многое может быть и найдено. Именно в переводе мы обнаружили глубочайшее богатство и обновление.
Исследования перевода и билингвизма делают интересный и полезный вклад в обновление нарративной терапии. По мере того как нарративные идеи мигрируют в новые культуры, мы можем вместо буквального перевода надеяться на диалогические отношения между нарративной терапией (английской) и terapia narrativa (испанской) и т. д., признавать их значимость и создавать их. В процессе этих перемещений родные земли нарративной практики могут быть обогащены, ассимилированы и диверсифицированы.
В то же время внимание к билингвальности или мультилингвальности может повлиять на нашу практику внутри языков. В предложенном в этой статье примере нарративные терапевтические разговоры перемещались сквозь и между таких названий, как Депрессия, Настроение, Оно, Травма и т. д. В этом процессе не происходило унификации пониманий, как это часто происходит в монолингвальных разговорах. Вместо этого мультилингвальность вводила в игру названия в качестве временных конструкций, подверженных обновлению или переосмыслению.
Мы надеемся, нам удалось показать, что перспектива перевода значима не только для традиционных билингвов (тех, кто говорит на таких языках, как испанский, английский, французский и т. д.), но также для монолингвов, которые выбирают участвовать в играх полилингвальности. Хотя в переводе многое может потеряться, многое может быть и найдено. Именно в переводе мы обнаружили глубочайшее богатство и обновление.
Если понравилась статья, и хочешь поддержать переводчика, жми сюда!
Ссылки
Bakhtin, M. (1981). Discourse in the novel. In M. Holquist (Ed.), The dialogic imagination: Four essays by M.M. Bakhtin. (C. Emerson & M. Holoquist, Trans.) (pp.259–422). Austin, TX: University of Texas Press.
Biguenet, J., & Schulte, R. (1989). The craft of translation. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
Burck, C. (2004). Living in several languages: Implications for therapy. Journal of Family Therapy, 26, 314–339.
Budick, S., & Iser, W. (1996). Cultural unstranslatability and the experience of secondary otherness. In S. Budick & W. Iser (Eds.), The translatability of cultures: Figurations of the space between (pp.1–24). Stanford, CA: Stanford University Press.
Eco, U. (2008). Experiences in translation (A. McEwen, Trans.). Toronto, Canada: University of Toronto Press. (Original work published 2002.)
Epston, D. (2008). Down under and up over: Travels with narrative therapy. Warrington, England: Association for Family Therapy.
Foucault, M. (1972). Archaeology of language and the discourse on language (A.M. Sheridan, Trans.). New York, NY: Pantheon Books. (Original work published 1971.)
Gadamer, H.G. (1975). Truth and method (J. Weinsheimer & D.G. Marshall, Trans.). New York, NY:Continuum. (Original work published 1975.)
Garcia Marquez, G. (1982). La soledad de América Latina Discurso de aceptación del Premio Nobel 1982) [Acceptance Speech of Nobel Prize 1982]. Retrieved June 15, 2007, from http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmnobel.htm Halliday, M.A.K. (1975).Anti-languages. American Anthropologist, 78(3), 570–584.
Hamers, J.F. & Blanc, M.H.A. (2005). Bilinguality and bilingualism. London, England: Cambridge University Press.
Kutuzova, D., Savelieva, N. & Polanco, M. (2008). The found in translation project. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, 1, 71.
Lock, A., Epston, D., Miasel, R. & De Faria, N. (2005). Resisting anorexia/bulimia: Foucauldian perspectives in narrative therapy. British Journal of Guidance &Counselling, 33(3), 315–332.
Makoni, S. & Pennycook, A. (2007). Disinventing and reconstituting languages. Clevedon, England: Multilingual Matters.
Morson, G.S. & Emerson, C. (1990). Mikhail Bakhtin:Creation of a prosaics. Stanford, CA: Stanford University Press.
Scott, C. (2000). Translating Baudelaire. Exeter, England:University of Exeter Press.
Scott, C. (2003). Channel crossings: French and English poetry in dialogue 1550–2000. Oxford, England: University of Oxford.
Sommer, D. (2003). Bilingual games: Some literary investigations. New York, NY: Macmillan.
Sommer, D. (2004). Bilingual aesthetics: A new sentimental education. Durham, NC: Duke University Press.
Strong, T. (2006). Wordsmithing in counselling? European Journal of Psychotherapy and Counselling, 3, 252–268.
Venuti, L. (1998). The scandals of translation: Towards an ethics of difference. New York, NY: Routledge.
White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York, NY: W.W. Norton.
White, M. & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York, NY: W.W. Norton.
Biguenet, J., & Schulte, R. (1989). The craft of translation. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
Burck, C. (2004). Living in several languages: Implications for therapy. Journal of Family Therapy, 26, 314–339.
Budick, S., & Iser, W. (1996). Cultural unstranslatability and the experience of secondary otherness. In S. Budick & W. Iser (Eds.), The translatability of cultures: Figurations of the space between (pp.1–24). Stanford, CA: Stanford University Press.
Eco, U. (2008). Experiences in translation (A. McEwen, Trans.). Toronto, Canada: University of Toronto Press. (Original work published 2002.)
Epston, D. (2008). Down under and up over: Travels with narrative therapy. Warrington, England: Association for Family Therapy.
Foucault, M. (1972). Archaeology of language and the discourse on language (A.M. Sheridan, Trans.). New York, NY: Pantheon Books. (Original work published 1971.)
Gadamer, H.G. (1975). Truth and method (J. Weinsheimer & D.G. Marshall, Trans.). New York, NY:Continuum. (Original work published 1975.)
Garcia Marquez, G. (1982). La soledad de América Latina Discurso de aceptación del Premio Nobel 1982) [Acceptance Speech of Nobel Prize 1982]. Retrieved June 15, 2007, from http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmnobel.htm Halliday, M.A.K. (1975).Anti-languages. American Anthropologist, 78(3), 570–584.
Hamers, J.F. & Blanc, M.H.A. (2005). Bilinguality and bilingualism. London, England: Cambridge University Press.
Kutuzova, D., Savelieva, N. & Polanco, M. (2008). The found in translation project. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, 1, 71.
Lock, A., Epston, D., Miasel, R. & De Faria, N. (2005). Resisting anorexia/bulimia: Foucauldian perspectives in narrative therapy. British Journal of Guidance &Counselling, 33(3), 315–332.
Makoni, S. & Pennycook, A. (2007). Disinventing and reconstituting languages. Clevedon, England: Multilingual Matters.
Morson, G.S. & Emerson, C. (1990). Mikhail Bakhtin:Creation of a prosaics. Stanford, CA: Stanford University Press.
Scott, C. (2000). Translating Baudelaire. Exeter, England:University of Exeter Press.
Scott, C. (2003). Channel crossings: French and English poetry in dialogue 1550–2000. Oxford, England: University of Oxford.
Sommer, D. (2003). Bilingual games: Some literary investigations. New York, NY: Macmillan.
Sommer, D. (2004). Bilingual aesthetics: A new sentimental education. Durham, NC: Duke University Press.
Strong, T. (2006). Wordsmithing in counselling? European Journal of Psychotherapy and Counselling, 3, 252–268.
Venuti, L. (1998). The scandals of translation: Towards an ethics of difference. New York, NY: Routledge.
White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York, NY: W.W. Norton.
White, M. & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York, NY: W.W. Norton.

