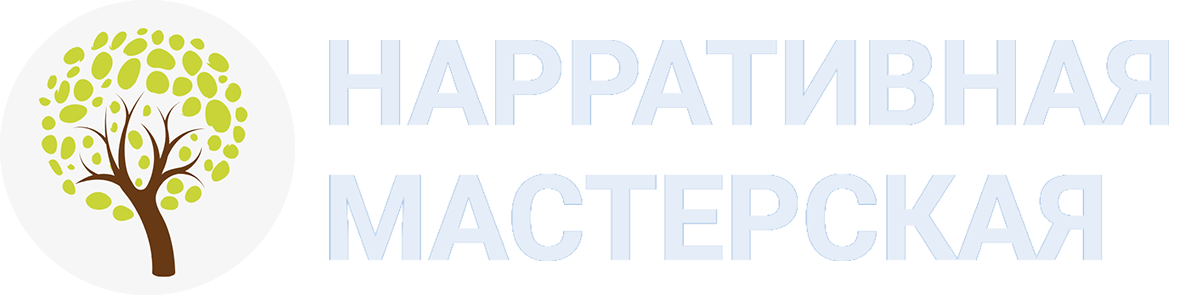Другие файлы cookie можно настроить.
Сотрудничество
нарративной практики и
когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)
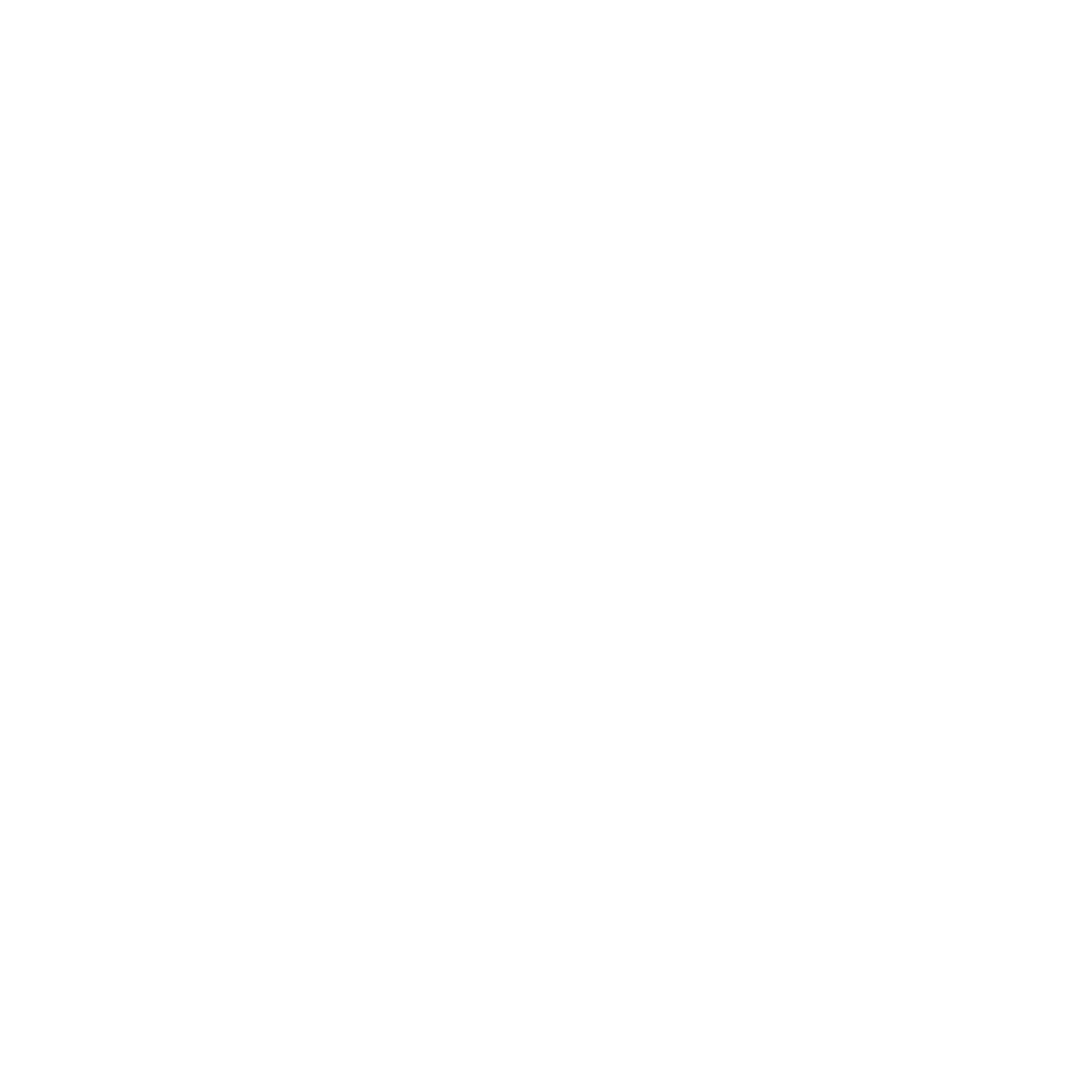
Изначально я нарративный практик, в 2023 обучилась КПТ. Нарративная — это мое стержневое и мировоззренческое направление, КПТ добавила технических приемов и структуры. Практикую это сочетание больше года, хочу поделиться своим опытом.
Но почему я вообще пошла учиться КПТ? Мне в какой-то момент перестало хватать нарративных инструментов, а широта и гибкость иногда казались слишком широкими и гибкими – хотелось некоторых берегов и больше структурности. Начали встречаться клиенты, которым было очень сложно с моим исполнение НП, им хотелось больше экспертности и четкости пути. И если в нарративную я пошла, чтобы перестать знать, как надо жить, то в КПТ – чтобы получить еще один вариант ведения практики, более четкий и структурный. Чтобы мочь варьировать.
По мере обучения КПТ и включения её в свою практику я с радостью отмечала, как она отлично дополняет нарративную! А недавно у меня окончательно сложился пазл сотрудничества этих двух подходов – и оно кажется мне настолько красивым, что не могу не делиться!
Безусловно, не всем собеседникам нужно и подходит такое, но части людей очень и очень даже. В записи подробно рассказываю про области пересечения и взаимодополнения подходов, делюсь своими рабочими документам. Вы получите системный взгляд на такую работу и дополнительные точки опор в своей практике.
Но у меня есть внутренний вопрос, на который я буду искать ответ в лекции. Я работаю в основном с детьми, причем многие из них с клиническими диагнозами. Интересно, как для детишек, особенно с нейро-отличиями, можно совмещать КПТ и нарративку. Просто они не очень усидчивые, отвечать на вопросы им сложно. Обычно я с ними работаю через игры и КПТ-техники. Также интересно послушать про опыт работы со взрослыми.

Зачем совмещать нарративную практику и КПТ
Контекст совмещения — долгосрочная терапия, когда есть запрос на устойчивые изменения в идентичности и поведении (хотя отдельные приемы тоже хороши)
В то же время КПТ в большей степени ориентирована на фиксацию проблемного, на то, чтобы трансформировать проблемное в процессе работы (и КПТ знает, как лучше это делать). Нарративная практика очень классно дополняет это акцентом на предпочитаемую историю, на то, что уже хорошо, на механизмы, которые уже работают. Это дает, с одной стороны, ясность, ощущение понятности пути, а с другой стороны, баланс внимания.
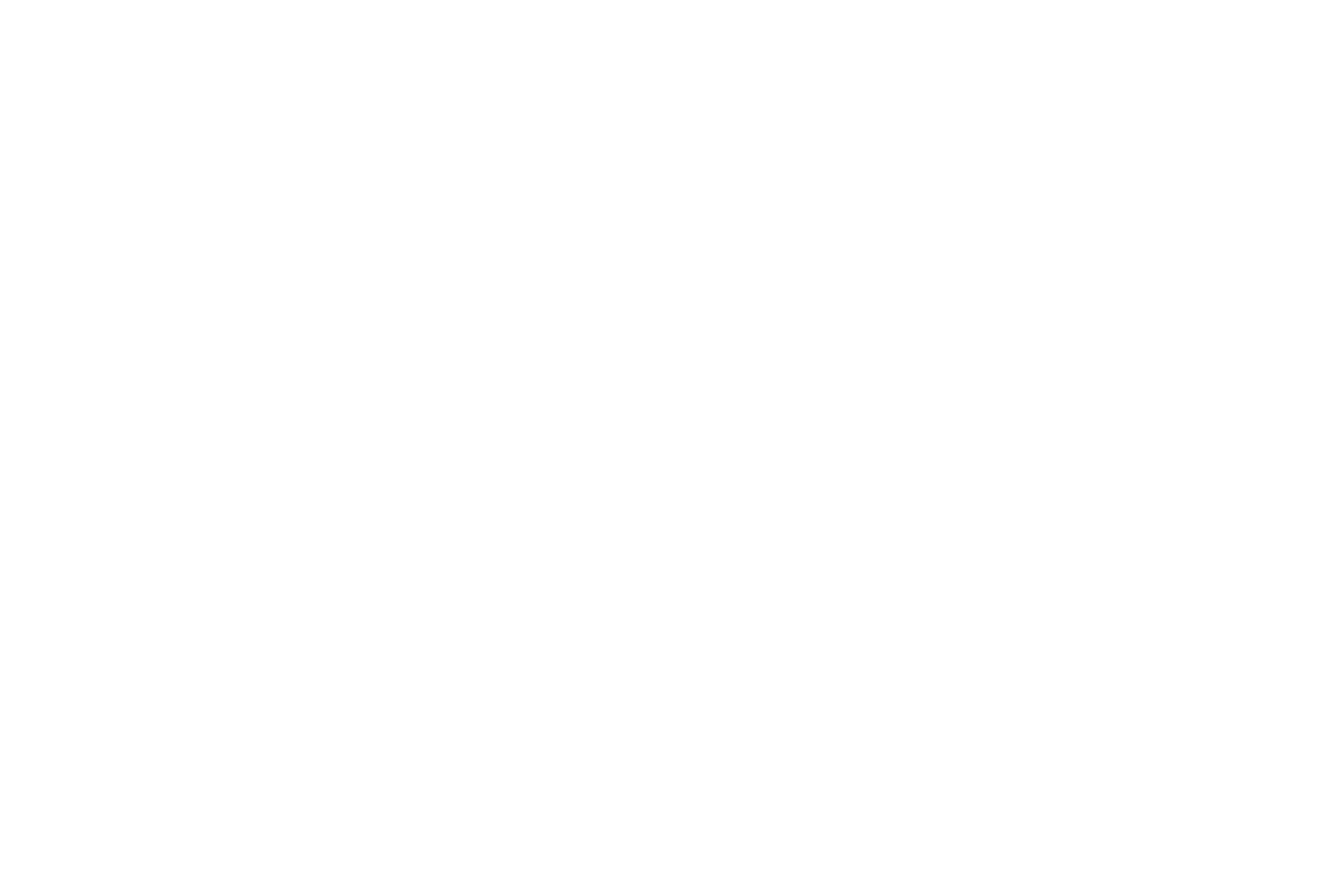
Когнитивно-поведенческая терапия
Коротко, прямо на пальцах, то такое КПТ и как там всё устроено, чтобы дальше показать, как красиво КПТ с нарративной практикой совмещается
- Биопсихосоциальная модель – на развитие психического расстройства (проблемы) влияют биологические, социальные и психологические факторы
- Когнитивная модель – эмоции и поведение человека обусловлены его мыслями и убеждениями
- Поведение может закреплять и усиливать эти убеждения
КПТ очень любит всякие схемы. Вот самая обобщенная схема того, что с нами происходит, когда случается какое-то событие (внешнее или внутреннее):
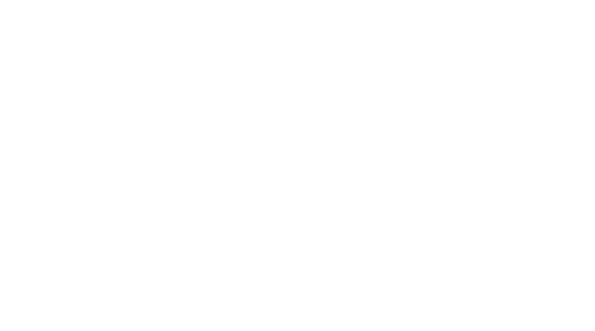
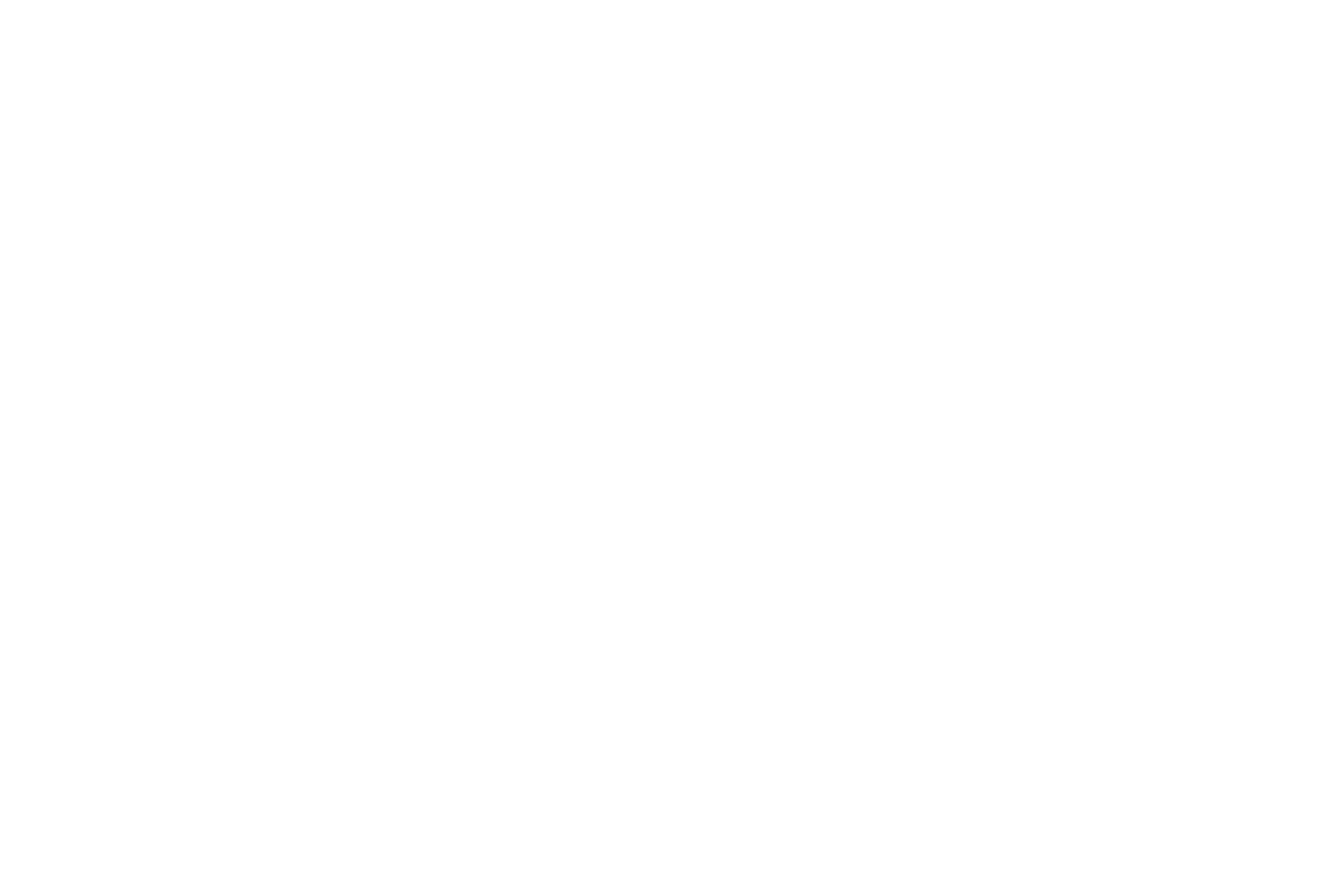
- Промежуточные убеждения (правила) о том, как нам надо жить вообще в целом (например, «Нужно тщательнейшим образом готовиться, иначе не справлюсь»)
- Глубинные убеждения о себе, корень идентичности, каков я, каков мир вокруг меня (что-то вроде «Я не ОК», в той или иной вариации)
КПТ уделяет больше внимания индивидуальным событиям, нарративная практика классно дополняет это исследованием дискурсов. На своем опыте работы убедилась, что иногда человек приходит без особых событий в детстве, которые могли бы сформировать негативное убеждение о себе, но контекст, в котором он рос, влияние массовой культуры, еще чего-то, было очень сильно, и это не менее сильно влияет на ощущение себя, чем конкретные события. Опять же, события могут происходить, потому что дискурсы влияют на людей, которые человека окружали в детстве. Например, после Второй мировой войны объективная нехватка мужского населения привела к усилению ценности мальчиков: «Вот бы родился мальчик!». А потом это дальше тащится и тащится, и через поведение родителей этот дискурс может непосредственно влиять на девочек. Здесь КПТ в большей степени думает про поведение родителей, а нарративная практика про дискурс. Важно и то, и другое.
Таким образом, есть ядро — глубинное убеждение о себе, и есть промежуточные убеждения (правила) о том, как надо жить, которые непосредственно вырастают из глубинного убеждения.

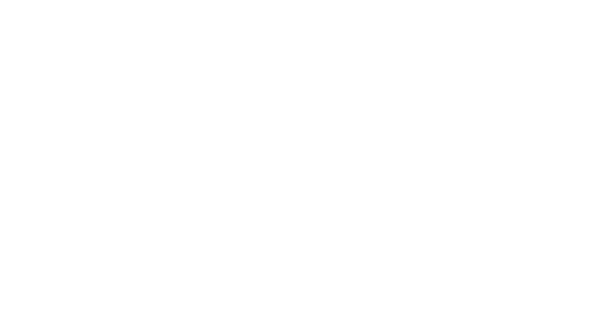
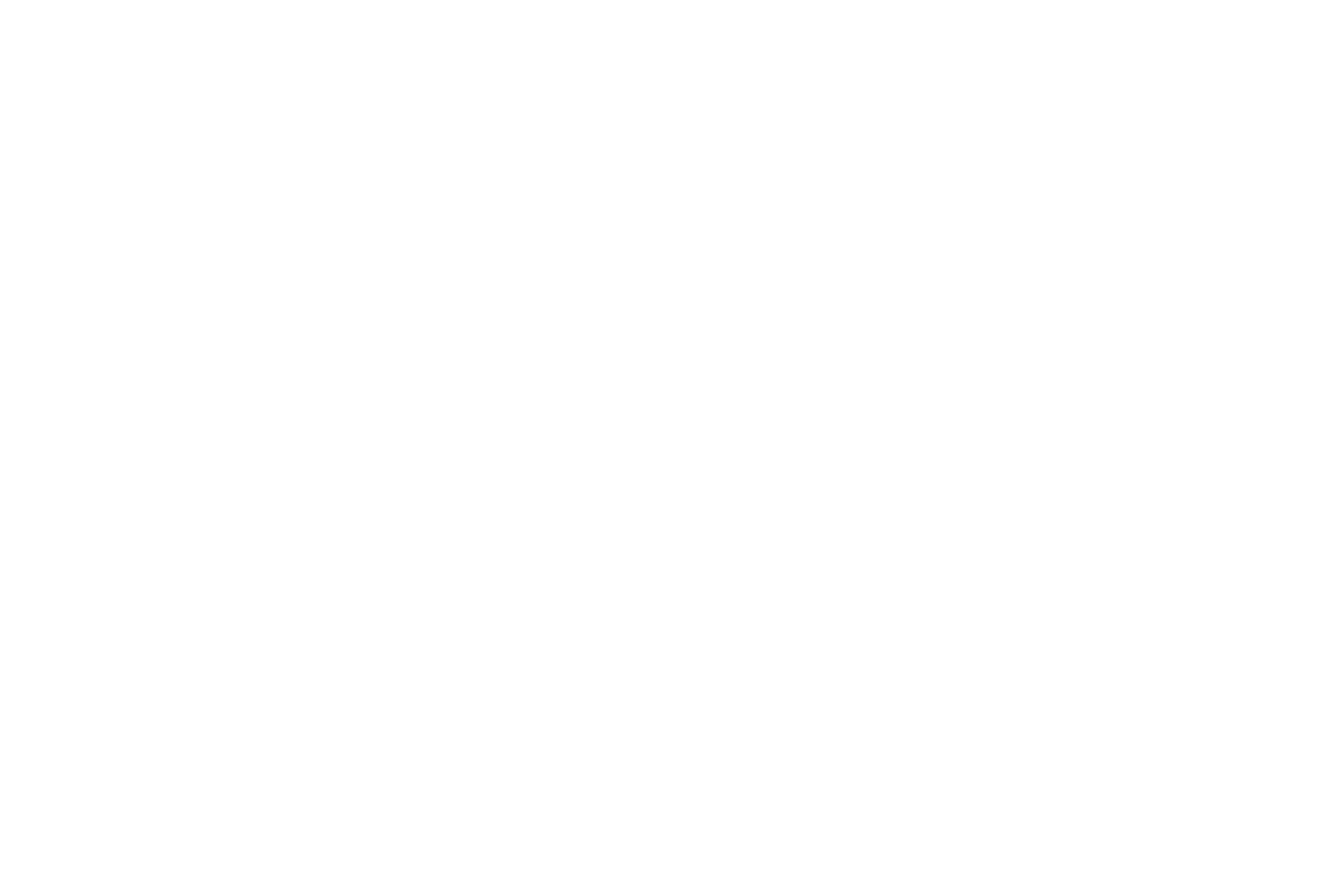
КПТ: движение от негативного к желаемому
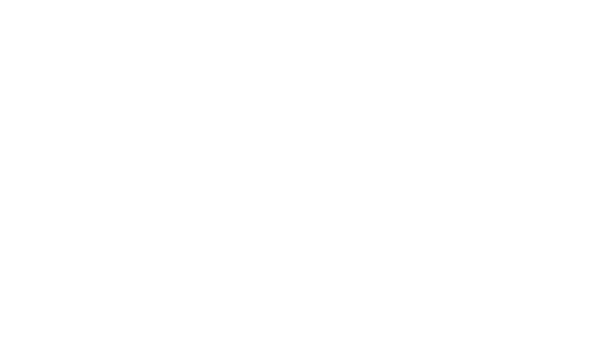
- Автоматические мысли
КПТ говорит, что нужно начинать работу с автоматических мыслей, потому что они привязаны к конкретике, их легче всего оспорить. Самое первое — это научиться отслеживать, как автоматические мысли возникают. Потом мы учимся их оспаривать и потихонечку подбираемся к тому, чтобы формулировать правила. - Промежуточные убеждения / правила
На этом этапе отслеживаем, как правила работают, опять же, оспариваем их и переформулируем. Дальше переходим еще ниже, на уровень глубинных убеждений. - Глубинное убеждение
Это самая махровая застаревшая зона, глубинные убеждения оспорить вообще очень сложно. Одна из ответов на на тему “полной перепрошивки” глубинного убеждения, чтобы прям вообще ни следа от него не осталось, таков:
к сожалению, не получится прям на 100% перепрошиться, эта штука будет снова иногда активироваться в результате каких-то сложных жизненных ситуаций – но вы точно можете научиться обходиться с ней, перестать об неё раниться
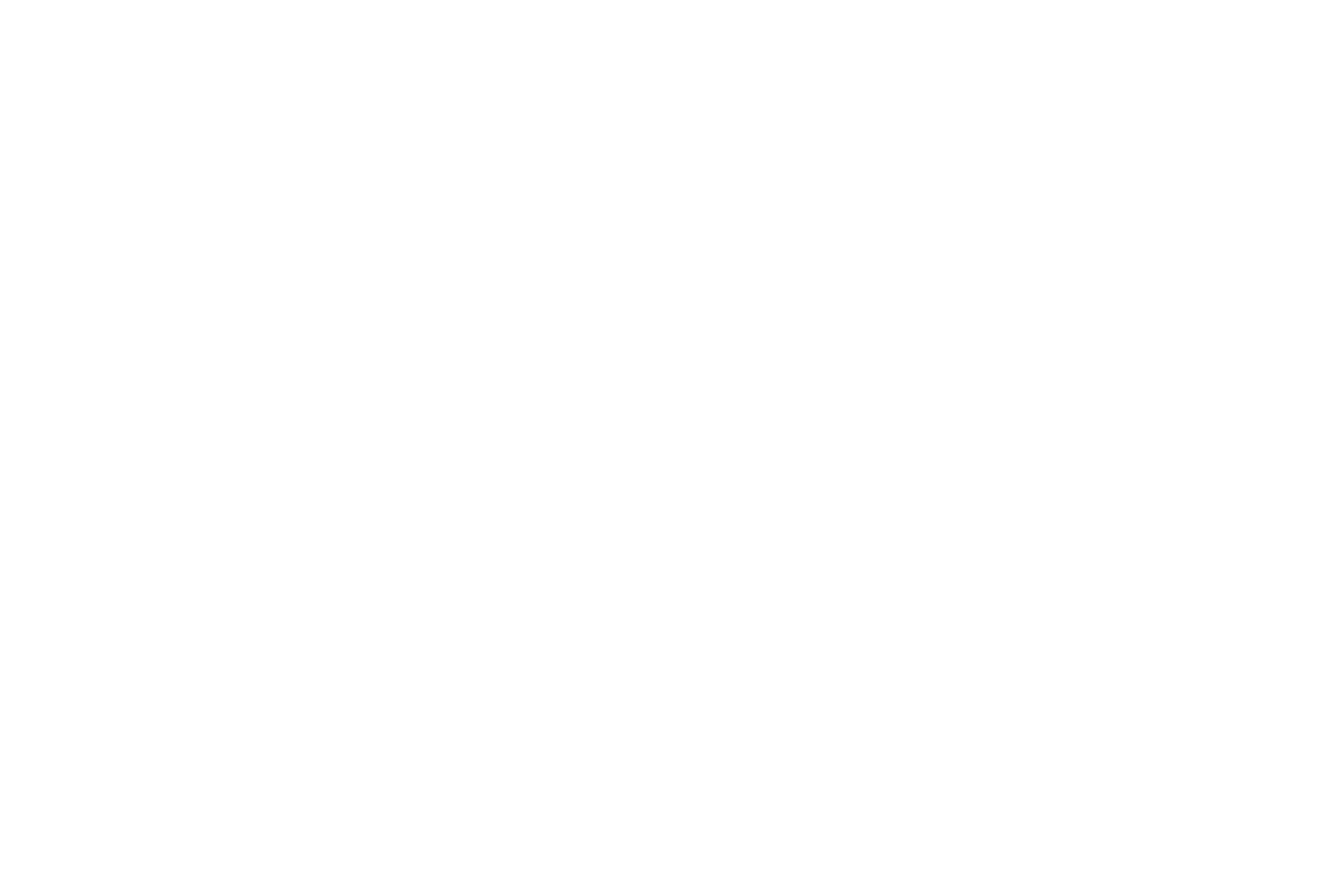
Потому что предпочитаемое параллельно есть всегда.
Работа снизу вверх и сверху вниз одновременно (от автоматических мыслей к глубинному убеждению и наоборот) мне кажется очень важной! Потому что нам надо поддерживать баланс — чем в худшей в ситуации находится человек, тем больше нужна доля нарративного внимания на то, что уже есть и хорошо. А чем больше ресурса появляется постепенно у человека в работе, тем глубже мы можем идти в исследование, как устроены автоматические мысли, правила и глубинное убеждение, и мы это трансформируем.
Я сразу рассказываю человеку про то, как это устроено, как я это вижу, и дальше, согласно логике КПТ, мы работаем сначала с автоматическими мыслями, но параллельно уже и с глубинными убеждениями, прямо специально акцентируя на это внимание.
Теперь расскажу подробнее про логику работы КПТ с акцентами на то, что я добавляю из нарративной практики.
Автоматические мысли
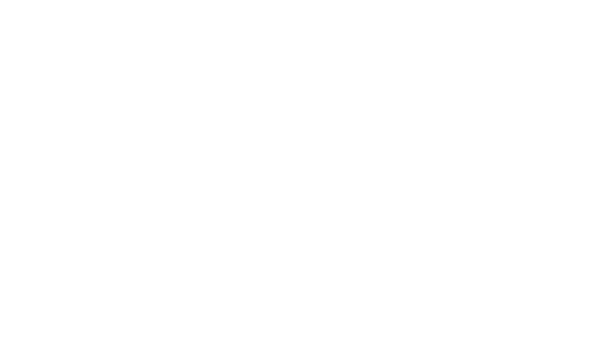
В этот дневник не нужно записывать любую автоматическую мысль, их миллиарды. Предлагается записывать что-то относительно яркое, чтобы на этих примерах потом разбирать автоматические мысли и учиться им не доверять.
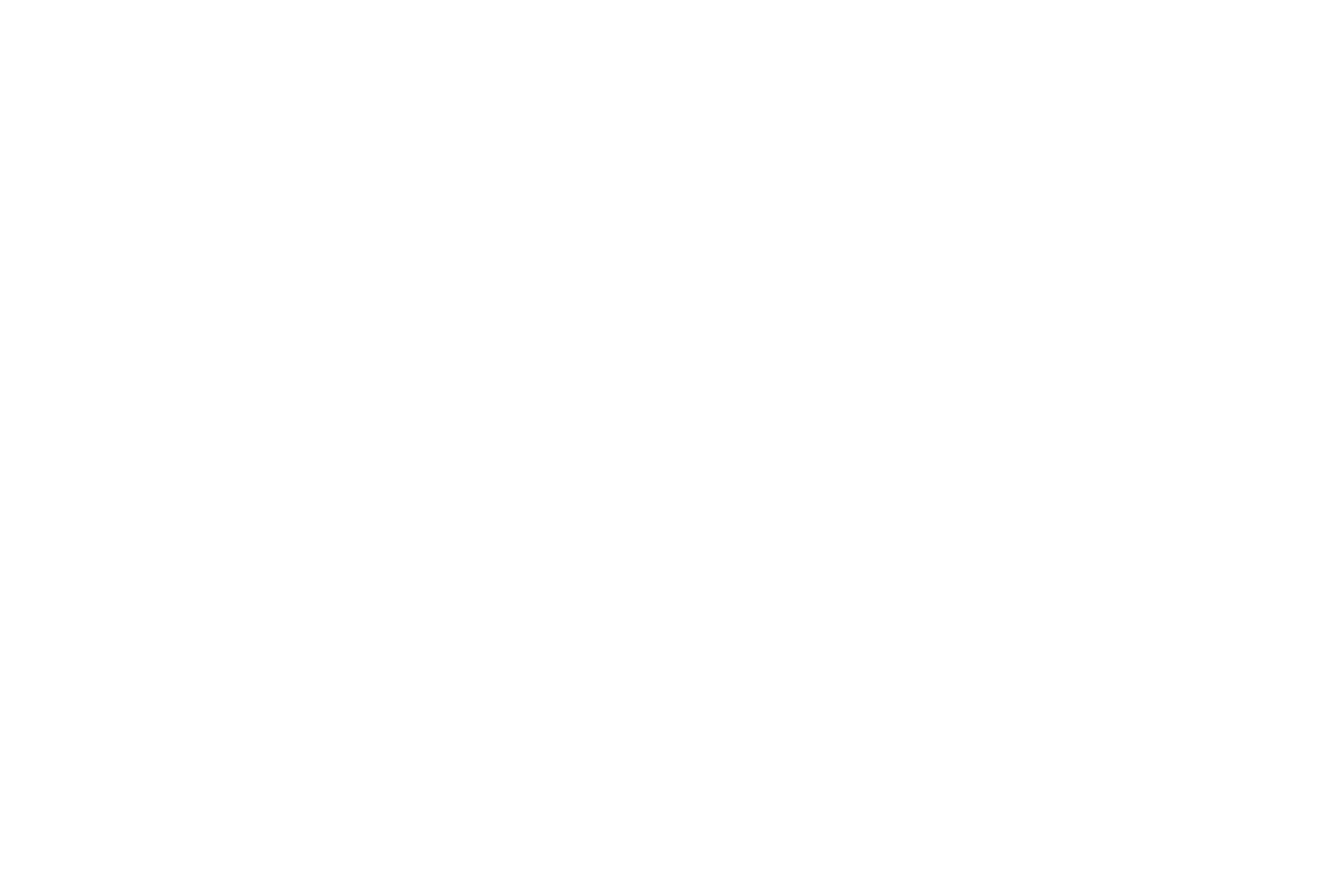
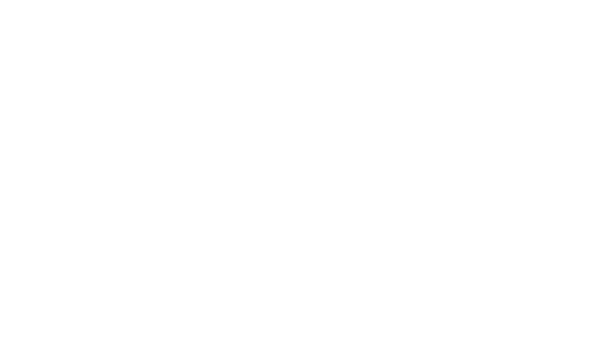
Оценка достоверности: аргументы за и против, поиск когнитивных искажений
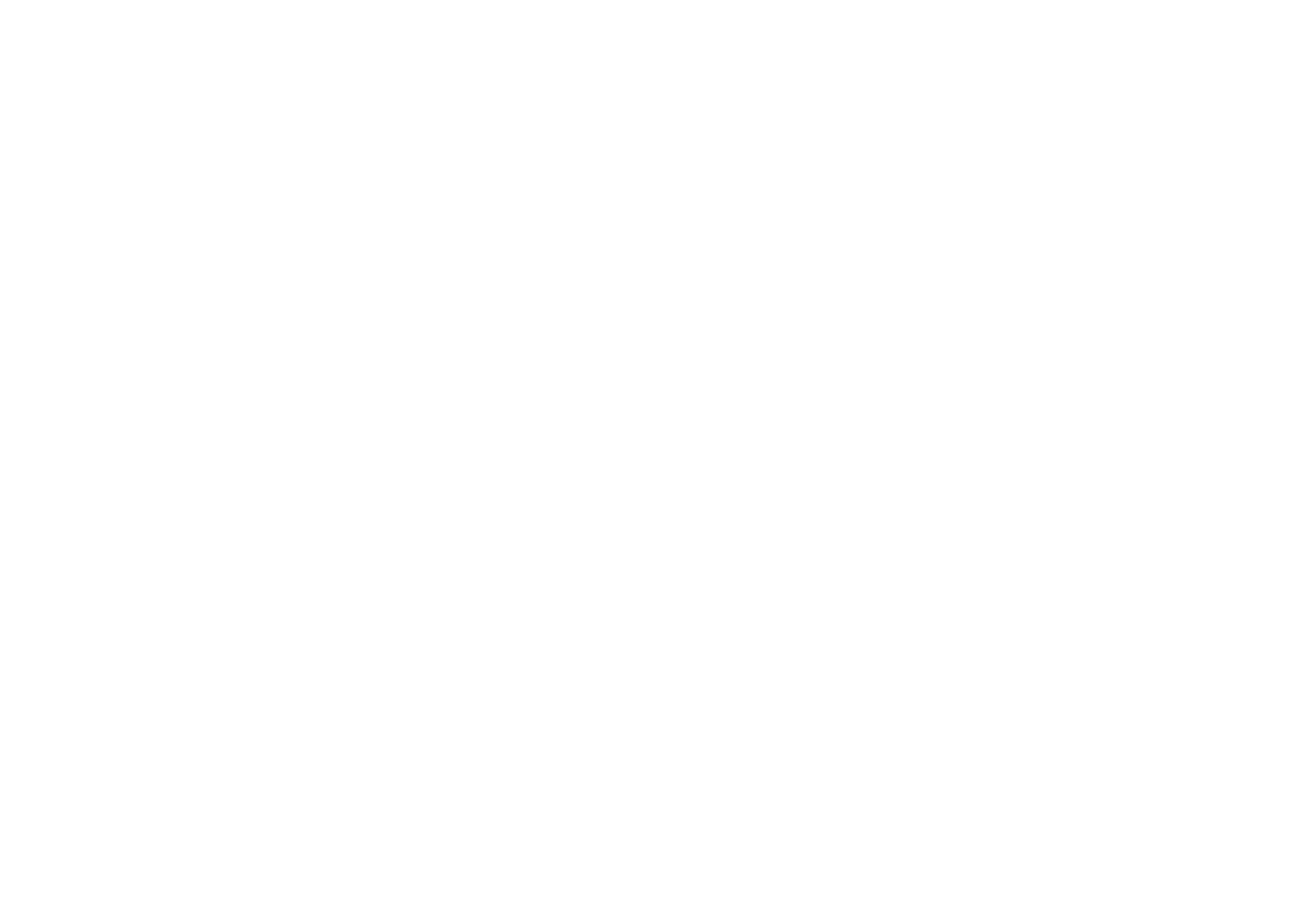
В КПТ есть очень важное понятие: когнитивное искажение. Есть списки когнитивных искажений и всякие их классификации. Например, «Я чувствую, что так будет, у меня сердце неспокойно» называется эмоциональное обоснование. Но по факту мы не знаем, как будет, реалистичнее было бы сказать: «Я не знаю, пройду ли я с собеседование или нет».
Мы анализируем каждый аргумент на предмет реалистичности, выискиваем, не закралось ли здесь когнитивное искажение. Здорово, если удается прямо называть, какое здесь задействовано когнитивное искажение. Иногда очевидна катастрофизация, когда делаешь из мухи слона, а иногда сложно назвать конкретно, но главное ясно видеть, где мысль не соответствует реальности.
Яркое подтверждение этому недавно встретила у Ирины Якутенко на примере изучения иностранных языков. У мозга есть потребность упрощать, и мы таким образом тоже искажаем реальность. Например, нам может казаться, что «выучить иностранный язык — это легко». В то же время есть и другое: «выучить язык сложно до невозможности». На убежденности в легкости обучения работают всякие приложения для изучения иностранных языков, но по факту они не очень-то эффективны. Но классно продавать эти приложения, эксплуатируя этот посыл о легкости, ты просто должен по 15 минут «щелкать сову» каждый день, и всё у тебя будет хорошо. Но это обман, который мы легко покупаем, потому что нам хочется думать, что это легко – и это прекрасно эксплуатируют маркетологи. А потом человек может уйти в другое искажение, что это я ничего не могу, вообще выучить язык невозможно, может, вообще забросить это?
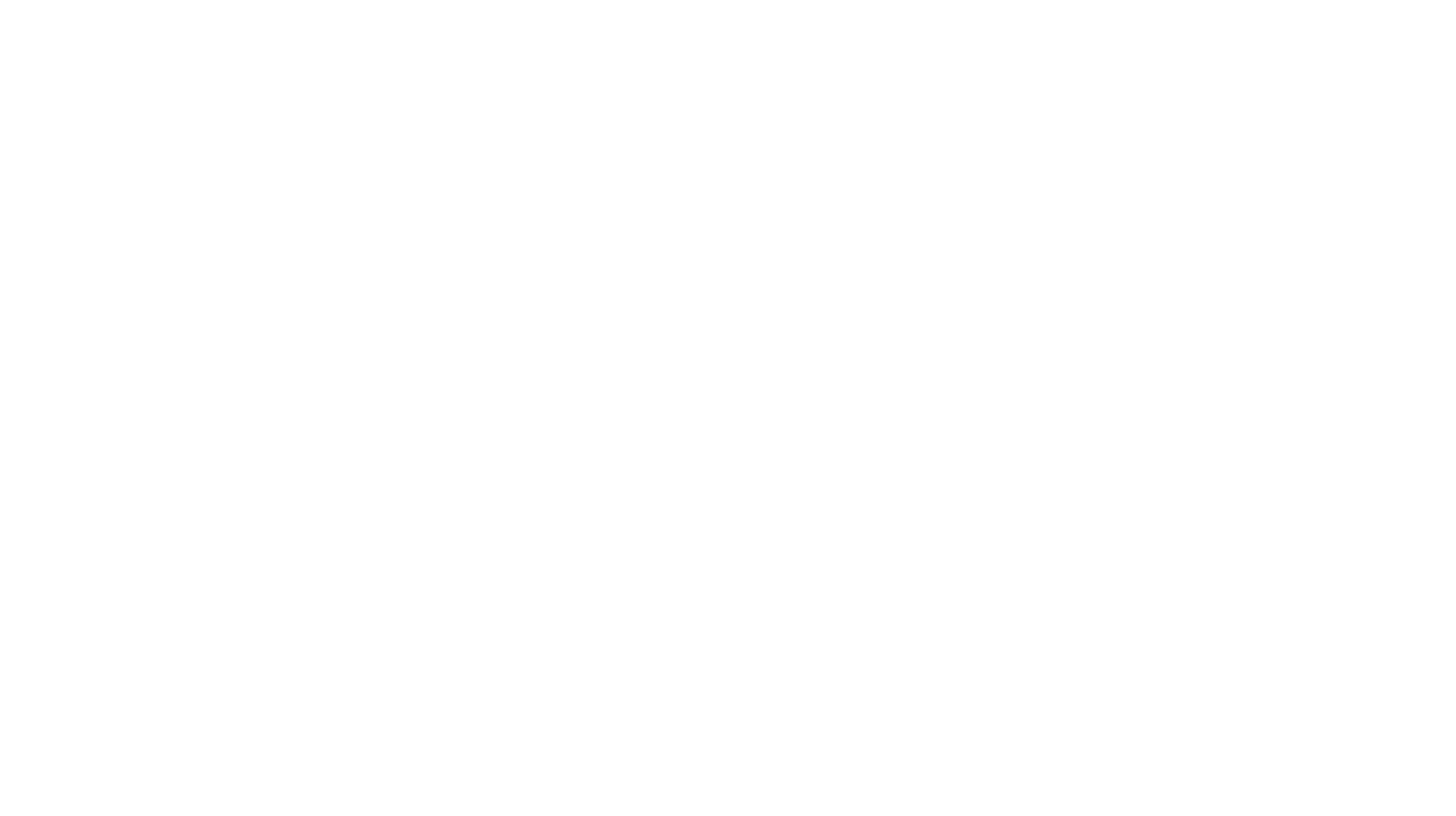
Декатастрофизация: наихудший, наилучший и реалистичный исход
Последствия убежденности: верю дальше – меняю точку зрения
— Если я продолжаю верить в эту мысль, это мне выгодно или нет? К каким последствиям меня это приведёт?
— А если я меняю точку зрения, то как это на мне может отразиться?
— Какие мои ценности нарушает вера в эту мысль?
Самосострадание: мой друг с такой же мыслью
— Если бы твой близкий друг или подруга была на твоём месте и думала бы то же самое, что бы ты ей сказала?
— Что бы ты сказал себе самому из будущего, из более ресурсного состояния?
(Если вернуться к идее mind map. Есть какая-то мысль, которую мы сначала записали в исходном варианте, потом переработали, записали предпочитаемый адаптивный ответ, и смотрим уже на него. Мы постепенно меняем эти кусочки и на них акцентируем внимание).
Приведу личный пример. Два года назад я переезжала из России. Был просто огромный фронт действий. Перед отъездом из квартиры, которая уже была продана, я несколько часов как электровеник металась по комнатам и с ума сходила, что не справлюсь: «Ты всё не соберешь, что-то обязательно забудешь!» Эта мысль прямо молотком долбила в голову. В какой-то момент я остановилась и задала себе три ключевых вопроса (я это называю коротким алгоритмом работы с автоматическими мыслями):
Реалистично ли то, что я сейчас не соберусь? Да, я могу что-то забыть, это реалистично, тут не поспоришь (и правда, после меня потом еще три человека целый день убирались в квартире.
Но помогает ли мне так думать? Нет, не помогает, совсем не помогает! Только топит меня эта картинка, в которой после моих сборов остается еще куча вещей в квартире.
Что я могу думать, что мне бы помогало и было бы реалистично? Я решила думать такую адаптивную мысль-вопрос: «Что я могу сделать в ближайшие 5 минут?» Я сформулировала для себя эту мантру и я все время к ней себя возвращала. Я не ставила таймер, но спрашивала себя раз в какой-то момент: в ближайшей перспективе, вот прямо сейчас, что я могу еще сделать? Мне это здорово помогло снизить тревогу в тот момент. Как минимум, я смогла уехать тогда.
Итого, короткий вариант работы с автоматическими мыслями:
1. Правда ли это? Насколько реалистична эта мысль?
2. Помогает ли мне эта мысль?
3. Что я могу думать (и делать), чтобы это отражало реальность и давало поддержку?
Конечно, здесь нужен навык работы с автоматическими мыслями, когда уже не надо всё расписывать, все искажения искать. Я уже могу, имея исходник автоматической мысли, сформулировать адаптивный ответ. В каких-то совсем тяжелых ситуациях, возможно, понадобится дополнительно проанализировать. Но чаще всего я могу оценивать реалистичность, анализировать, насколько мне это помогает, формулировать то, что мне будет больше помогать, и потом стараюсь это думать и приводить себя к этому.
В алгоритме есть важный этап — оценка выраженности изначальной эмоции в %. Это как лакмус, мы можем посмотреть, что было 70%, а стало 30% — значит, мы хорошо сработали. Другая мысль порождает другие эмоции или другую степень эмоций, и это работает.
Промежуточные убеждения
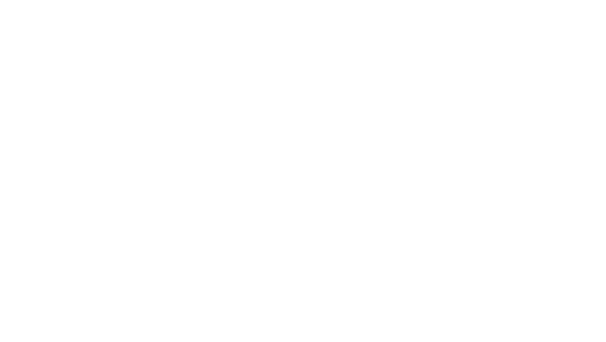
Анализ правил во многом похож на нарративную деконструкцию. Если это, например, правило про то, чтобы подстраиваться и сильно нравиться, мы исследуем, что хорошего приобретается, а что теряется? Часто этот вопрос классно показывает несостоятельность правил.
Бывает так, что человек оставляет себе какие-то куски старой версии правила, но обозначает контекст. Например: в этой компании вот так всё устроено, и я буду продолжать по-старому с ними себя вести, но также я буду искать новых людей и общаться с ними иначе, или у меня уже даже есть другие сообщества, где я могу спокойно следовать тем своим правилам, которые мне больше нравятся.
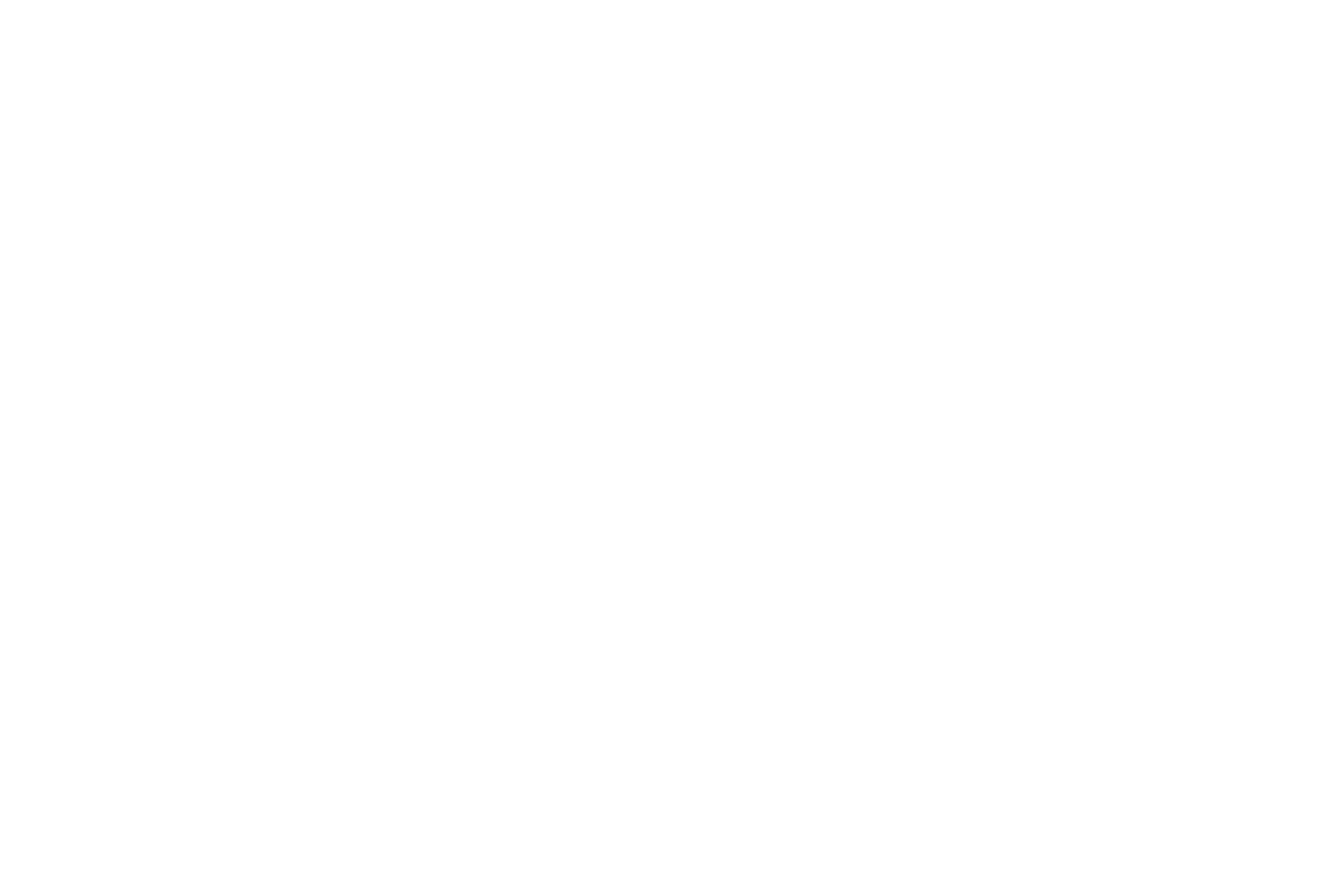
Глубинные убеждения
Для работы с глубинными убеждениями тоже есть свой алгоритм
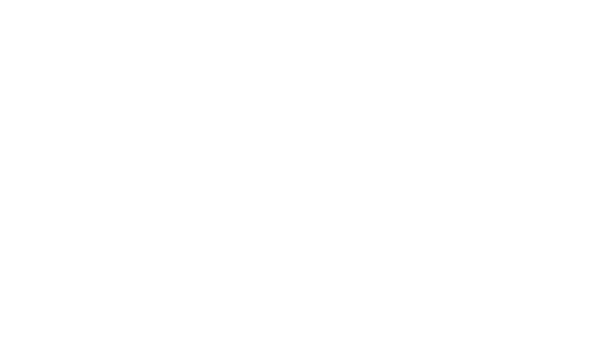
В КПТ выделены 3 основных вида глубинных убеждений:
1. Непривлекательность
Я недостойна любви просто так
2. Беспомощность
Я не справлюсь, у меня не получится, обстоятельства сильнее меня
3. Никчемность / дефективность
Я сломанный, я странный, я ненормальный, я даже опасный, я плохо управляю своей злостью, я могу навредить.
Повторюсь, это не новое и старое, а проблемное и предпочитаемое глубинное убеждение.
Рескриптинг — это техника перепрошивки воспоминаний. Когда есть травматическое воспоминание, мы переписываем сценарий особым образом, добавляя защитную фигуру, которая уберегает нашего собеседника от самого эмоционально тяжелого в этой ситуации.
В КПТ есть базовая техника – экспозиция, когда мы просто привыкаем к тому, что да, это было. Мы можем несколько раз какой-то опыт вспоминать, прокручивать, или организовывать что-то, что будет чуть-чуть похоже на тот опыт, например, ходить в те места, где нам было страшно, чтобы перестать их бояться. С помощью рескриптинга мы перепроживаем в воображении измененное воспоминание, и это как бы зашивает эмоциональную дырку. Это не значит, что мы шизофрению развиваем, что якобы там был другой опыт. Нет, опыт не был другим, но эмоционально он схлопывается. Когда ты снова про это вспоминаешь, уже нет таких ярких эмоций. Ты уже туда добавил ощущение защиты. Этот классный метод мне очень нравится, я его использую в работе. Есть особые условия, как это делать, в рамках КПТ это изучают.
Например, человек говорит: «Я убеждена, что недостаточно хороша, не встречу никого, никому не понравлюсь, не буду счастлива». Мы тогда подтягиваем эпизоды, которые противоречат именно этому. Это не в самом широком смысле предпочитаемая история, а больше то, что альтернативно проблемному. Мы бьем более прицельно. Для этого я предлагаю клиентам две основные техники. Первая из них – Дерево нарративное. Взяла эту таблицу из курса Ирины Мороз, где мы в течение 10 недель заполняли её, а в конце курса рисовали и обсуждали свои деревья. Теперь я использую это в индивидуальной работе.
Нарративное Дерево как способ работы с глубинным убеждением
Человек заполняет табличку с традиционными нарративными вопросами Дерева, ответы на которые потом станут почвой, стволом, корнями и ветвями.
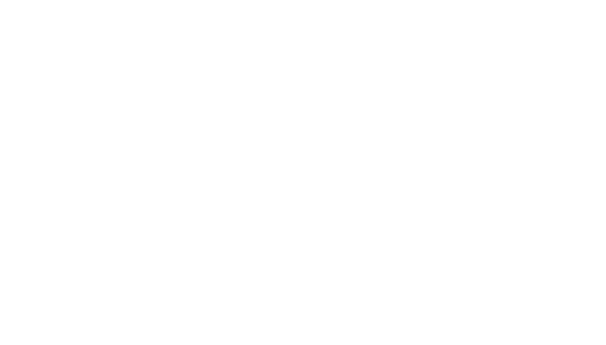
Дополнительные вопросы (**) помогают дать самому себе свидетельский отклик. Например, на энергии действия, которое человек вспомнил, возможно, еще что-то захочется сделать, продвинуться в решении какого-то вопроса. В отличие от свидетельского отклика, где мы вдохновляемся историями других людей, здесь мы вдохновляемся своими же навыками или своей ценностью.
В конце таблица может превращаться (или не превращаться) в нарративное Дерево
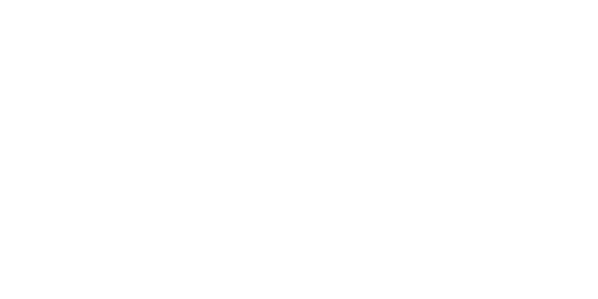
Осознаю, что это большая работа, которая не всем подходит. Но даже если мы не рисуем дерево, у нас остается список в табличке, который тоже нельзя развидеть и к нему можно возвращаться. Составляя этот список, мы сами себе, своему мозгу доказываем, что да, вообще-то я таков.
Присвоение (авторизация) результата
Этот инструмент я взяла не из нарративной практики и не из КПТ, а у Анны Обуховой, Agile коуча, эксперта по воздействию стресса на мозг и внимание.
Кому-то больше подходит Дерево, а кому-то больше этот прием: когда ты что-то ты сделал, ты берешь и это присваиваешь себе, встраиваешь в свою идентичность дополнительно.
Алгоритм присвоения
(авторизация) результата:
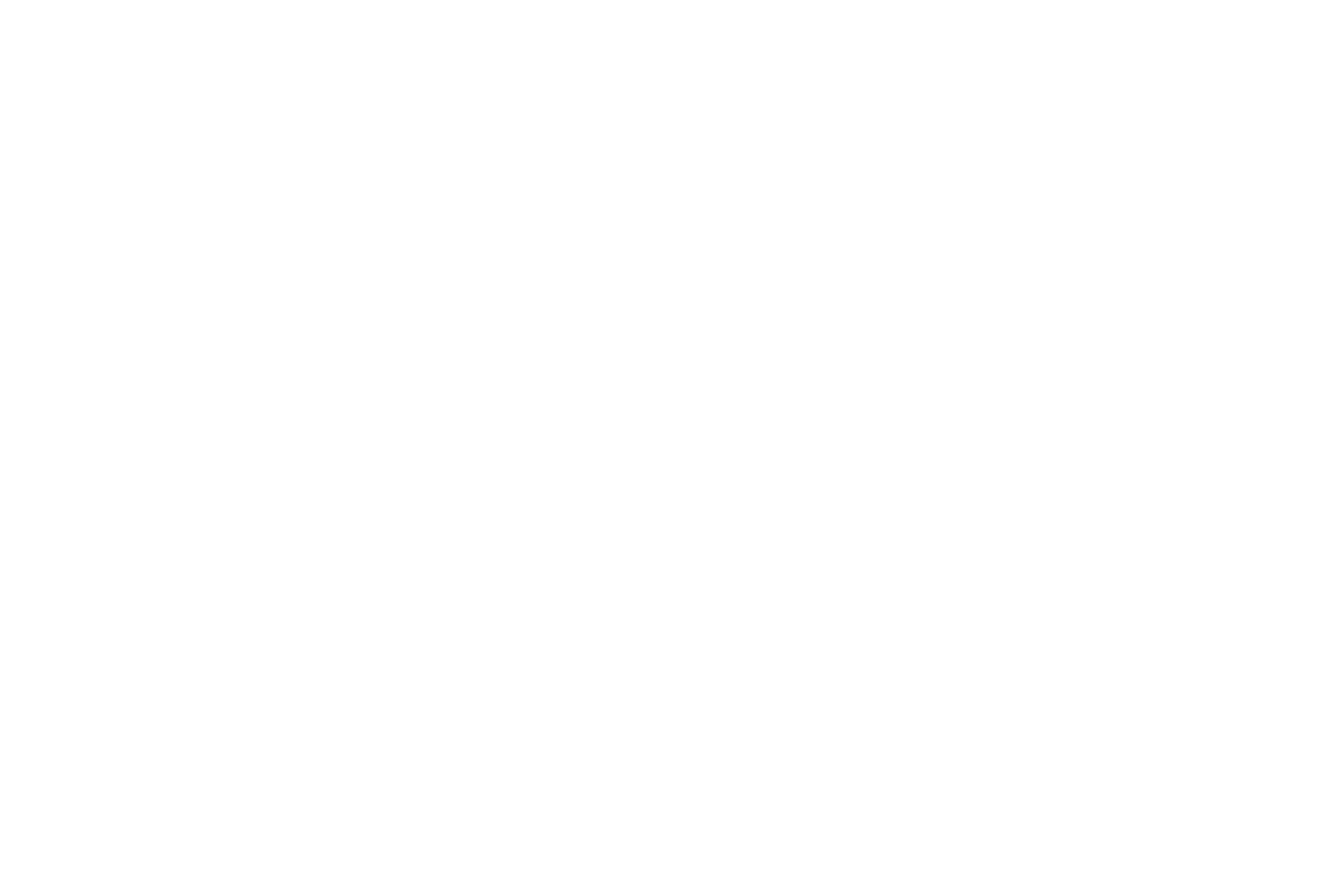
Подытоживая
На этом основная часть моего рассказа завершена. Главная идея моя состоит в том, что имеет смысл работать одновременно в двух направлениях:
● Сверху-вниз по мере увеличения единиц расшатывания
Еще важные
категории из КПТ
В КПТ есть ещё некоторые категории, о которых хотелось бы упомянуть, потому что они сильно отличаются.
- Руминации
Это повторяющиеся, ни к чему не ведущие мысли, которые надо просто отодвинуть подальше. Для работы с автоматическими мыслями есть целый алгоритм, а с руминациями не надо ничего делать. Для меня и для многих клиентов навык отличить одно от другого оказался мега-полезным.
Руминации иногда могут запускаться автоматическими мыслями. Сейчас в конкретной ситуации что-то не получилось, а потом я начал постоянно крутить в голове: «Я неудачник, я неудачник». В своей в каком-то смысле авторитетной позиции, зная про то, что есть такая категория мыслей, мы авторитетно заявляем, что думать «Я неудачник» не надо, развеивать и оспаривать такие мысли не надо. Наша задача — научиться отличать руминации и от них отстраняться. В качестве отстранения подходят и mindfulness, и экстернализация.
Мне очень понравилась метафора из нашего обучения: представьте, что руминации — это стая рыб, которые вокруг вас плавают. У вас нет задачи ловить каждую рыбу, они все одинаковые. Так и руминации просто летают вокруг вас и морочат вам голову. Пусть плывут — вы сам по себе, они сами по себе. Ну, есть у мозга такой механизм, когда-то, видимо, он был полезный, потому и закрепился. У кого-то больше предрасположенность к руминациям, у кого-то меньше. Даже если у вас чуть больше, ничего страшного — давайте учиться с ними справляться, они будут меньше и меньше становиться, все реже и реже вокруг вас плавать.
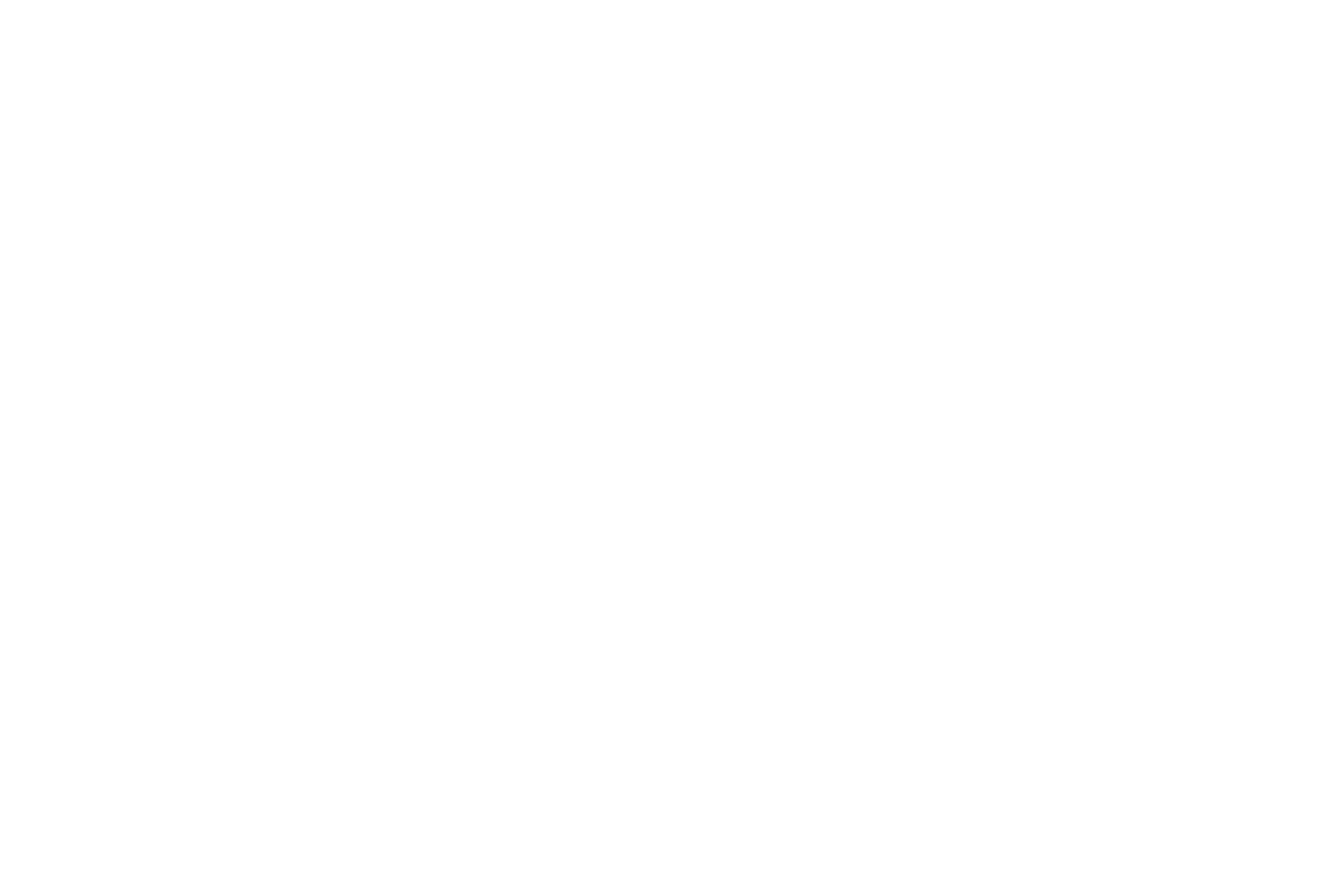
- Экспозиция и защитное поведение
Я уже упоминала экспозицию — метод, когда мы сознательно погружаемся в сложную ситуацию, чтобы научиться не бояться чего-то. Часто используется в работе с фобиями. Например, мы сначала смотрим на паука на картинке, потом на живого где-нибудь в террариуме. Яков Кочетков даже устраивает специальные сессии для людей с арахнофобией (боязнь пауков), где они в финале могут подержать в руках пушистых огромных пауков, преодолевая свой страх поэтапно. Это называется градуированная экспозиция.
Здесь важно упомянуть защитное поведение. Например, человек, с социальной тревожностью говорит: «Наверное, надо бы мне проделать экспозицию и попросить в следующий раз таксиста, чтобы он включил печку. Я мёрзну, а попросить боюсь». Но если он даже решится попросить таксиста, но будет внутри себя сильно сжиматься и повторять защитные мантры, экспозиция не сработает. Так будет тренироваться сжимание и защитные мантры, а не прямой контакт с человеком.
Нам нужно внимание к тому, что человек делает, как он справляется в процессе каких-то трудных для него событий (действий). Когда расспрашиваем человека про то, какие у него уже есть навыки справляться с ситуацией, среди совершенно потрясающих умений люди могут рассказывать о защитном поведении, которое может, наоборот, приводить к усилению проблемы.
Я тоже сейчас прохожу обучение КПТ в Психодемии. Хочу поделиться опытом работы с клиенткой, с которой я начинала работать, имея в своем арсенале только нарративный инструмент. Она ко мне обратилась с фобией. Я до сих пор очень сильно переживаю, что, вспоминая её позитивный опыт и подкрепляя его, я как раз защитное поведение у нее подкрепила. Как вообще различать защитное поведение и его отбрасывать? Для меня это всё ещё неразрешённый вопрос.
Краткосрочно — да, клиентка осталась довольна, у нее получилось сделать то, что она боялась, потому что вспомнила, что такое делала, встречаясь лицом к лицу со страхом. Мы тогда это закрепили как хороший результат. Но до сих пор вспоминаю этот эпизод и думаю о том, а не совершила ли я ошибку в работе с фобией. Может быть, надо было ей указать, что не нужно этим пользоваться, потому что без этого страх снова вернется, он на самом деле никуда не девается.
- Поведенческая активация
Это один из научно доказанных методов в КПТ, который работает с депрессией, первая линия помощи при работе с депрессией. Мы исходим не из того, что сначала организуем особые условия для того, чтобы нам стало лучше, и тогда будем что-то делать. Напротив, мы сначала потихонечку начинаем что-то делать, и от этого нам становится лучше. У нас начинают меняться мысли о себе: «Ого, я могу!», и это меняет состояние эмоций и прибавляет дополнительно силы.
Нарративная практика помогает организовать эту работу очень бережно и внимательно, акцентируя внимание на детали, которые получились. Даже если что-то чуть-чуть получилось, нарративщики классно умеют это праздновать, этим восхищаться, не просто принимать к сведению, а дополнительно усиливать. Это очень важно в работе. - Концептуализация
Это документ, в котором описываются все логические цепочки, что к чему привело, биологические предрасположенности и убеждения, связки с мыслями и всё остальное. Мой одуванчик — это тоже частично концептуализация. Особая польза её в том, что мы ее создаем не за пределами кабинета, а совместно с человеком. Фактически он сам ее пишет, а мы показываем все логические цепочки. - Опросники и шкалы
Эти инструменты помогают измерять состояние, что особенно ценно в работе с клиническими запросами (депрессия, тревога). Наш мозг склонен обесценивать, а так мы можем иметь какие-то данные, на которые можно опираться: «Смотрите, вначале было столько, а сейчас столько». Особенно мне нравится, когда вначале предлагаю человеку оценить, насколько сейчас по его мнению выражена его проблема, например, тревога, а спустя время прошу сделать это еще раз. Он уже забыл, сколько в первый раз сказал. «Было / стало» наглядно показывает прогресс в работе и помогает мозгу придавать ценности всему, что тут делается.
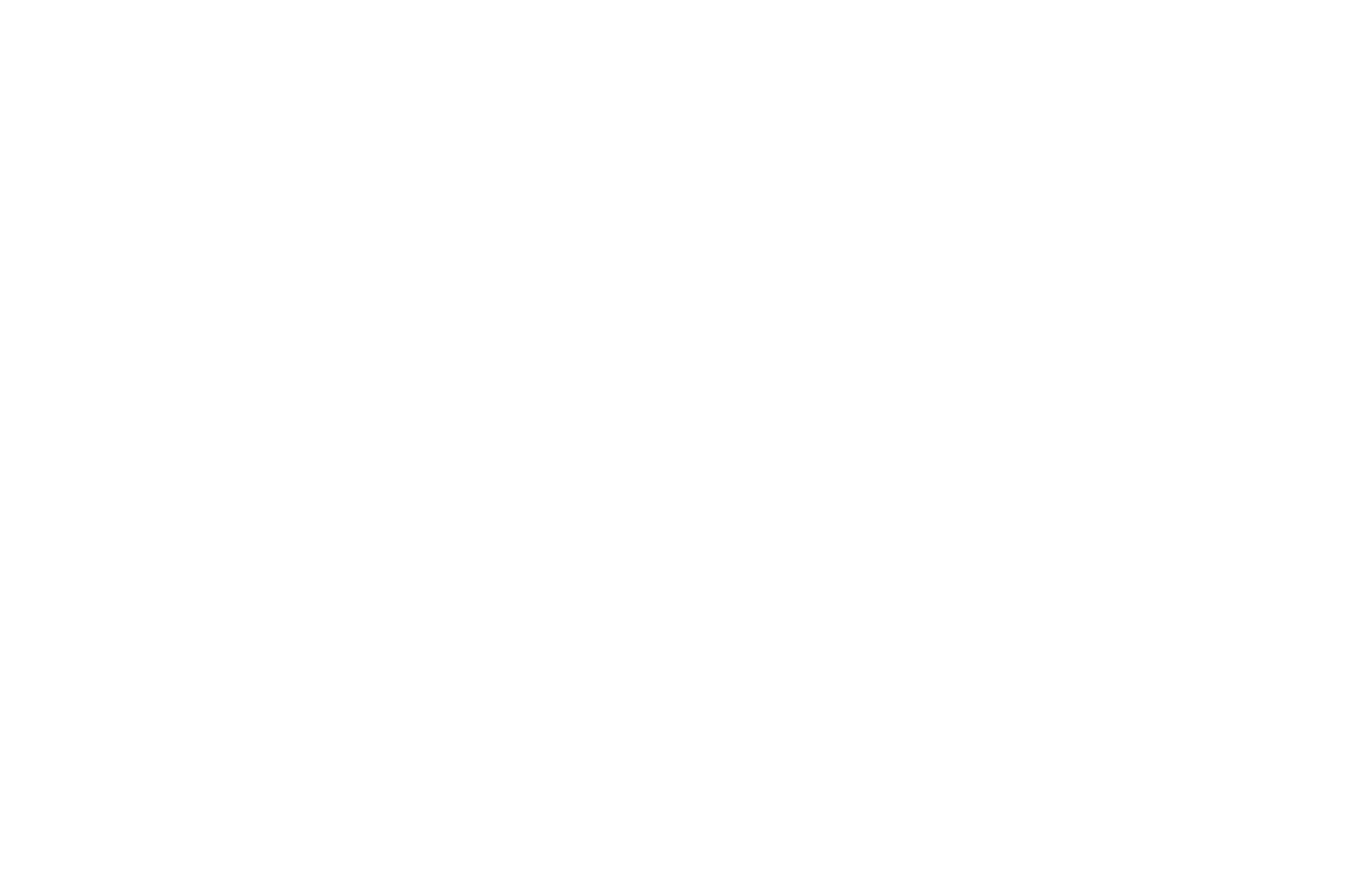
- Рескриптинг
У меня вопрос про диссоциативные моменты в КПТ. Когда человек часть какой-то информации, так скажем, отщепил, это учитывается? Или просто в процессе, когда идет анализ, разбор мыслей и так далее, это постепенно становится осознаваемым?
Рескриптинг со снами тоже работает. Иногда это могут быть не столько воспоминания, сколько образы, в которых человек мыслит что-то о своём детстве, и мы можем перерабатывать тогда эти образы. Они как эхо события, но мы можем работать с эхом события тоже.
1. Как именно данные мысли помогают мне прямо сейчас?
2. Какая функция у этих размышлений? Каковы их истинные намерения?
3. Необходимо ли мне прямо сейчас думать об этом, решать проблему? Или можно спокойно отложить и выбрать более подходящее мне время?
4. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы решить проблему? И готова ли я сейчас уделить этому время?
5. Что я могу сделать позже, чтобы решить проблему? Могу ли я это запланировать и зафиксировать?
Этот чек-лист может быть записан в специальном блокноте, который всегда с собой. Руминации пришли, человек достает блокнот и спрашивает. У одного моего клиента есть образ банки с червяками для рыбалки, и он ведет с ними диалоги: «Ты сейчас зачем пришёл, Петя? Ты мне сейчас помогаешь? Я должен прямо сейчас на тебя отвлечься, или всё-таки ты можешь сейчас пойти на рыбалку? Скажи мне, что прямо сейчас я могу сделать? Сейчас сделаю. Спасибо тебе, дорогой. А это я сейчас не готов делать, но я зафиксирую и сделаю завтра. Всё, Петя, спасибо, до новых встреч, если вдруг у тебя будет что-то ценное мне рассказать».
Мы знаем, что что Петя — это Петя, с ним ничего не надо делать, и каждый раз можем сказать: «О, привет, я знаю, зачем ты пришел. Сейчас быстренько почекаем, у нас короткое совещание», или: «Нет, дорогой Петя, отложим совещание. Я вижу в ежедневнике, что у меня есть 10 минут сегодня в 14.50, тогда я к тебе вернусь, и мы обсудим важное».
Работа с руминациями в таком нарративно-когнитивно-поведенческом ключе дает облегчение от того, что я знаю, что надо делать в этих ситуациях, могу отделиться и сделать это прикольно, нарративно и по-своему. В целом я знаю, что мне долго с «Петей» разговаривать не надо, и это прямо большое облегчение. Для многих именно это важно и достаточно.
● Устойчивые навыки самотрансформации, «деятельная оптика»
● Понятная картинка внутренней реальности
● Алгоритмы, к которым можно вернуться и вспомнить при необходимости
● Списки и дерево как артефакты, которые можно пощупать
Мне особенно нравится в этом сочетании, что у человека есть устойчивые навыки справляться с проблемой на всех уровнях: он знает, что делать, как делать и куда он может вернуться. Даже если он что-то подзабыл, есть таблички и карточки, он всегда может все вспомнить. Причем это нельзя развидеть — часть работы сделана, и ее невозможно обесценить.
Мне самой важно, и я вижу, насколько это важно части клиентов, понимать, как вообще устроена терапия, что мы делаем, где мы сейчас. Часто мне даже говорят: «Я понимаю, что мы сейчас на переходе от работы с автоматическими мыслями к работе с правилами. Да, мне тут надо ещё чуть-чуть поделать». Классно — двигаемся дальше, есть ощущение понятности этого движения и ощущение завершенности.
Это не значит, что мы не должны вообще больше никогда видеться. Я на связи, мы можем возобновить работу. Было бы странно, если бы мы могли полностью вообще во всём сами разбираться. Но часть этой работы человек точно может сделать сам, и он в этом убеждается — действует сам по большей части, а какие-то сложные моменты, возможно, разбирает дополнительно с психологом.
Чего я, к сожалению, не услышала, это диссонанс, который у меня возникает в отношении обоих подходов к познанию и к реальности, потому что в нарративной практике мы берем за основу то, что истинное относительно, и как таковой объективной реальности нет, а КПТ вся строится на объективной реальности. Как этот баланс удерживать, какую позицию я занимаю, пока не определилась. В общем-то, не знаю, нужно ли определиться, никто не обязывает. Но этот вопрос для меня все еще остается открытым. Но он не прост, я не ожидала, что Женя ответит на него. Это не претензия, я просто поделилась, какие еще меня волнуют вопросы. А так очень здорово.
Я хочу расширять свою практику, в том числе, за счет других подходов, но мне очень важно, чтобы эти подходы соответствовали моей философии, тому, как я смотрю на профессиональную и личную жизнь. Сегодня Женя продемонстрировала, как это может выглядеть.
Еще для меня стало удивительным, что есть глубинное убеждение и есть предпочитаемое глубинное убеждение — почему бы не работать над навыками, которые полезны в предпочитаемом глубинном убеждении? С самого начала у меня звёзды сошлись, все стало более понятно и устойчиво. Благодарю, было очень круто и полезно.