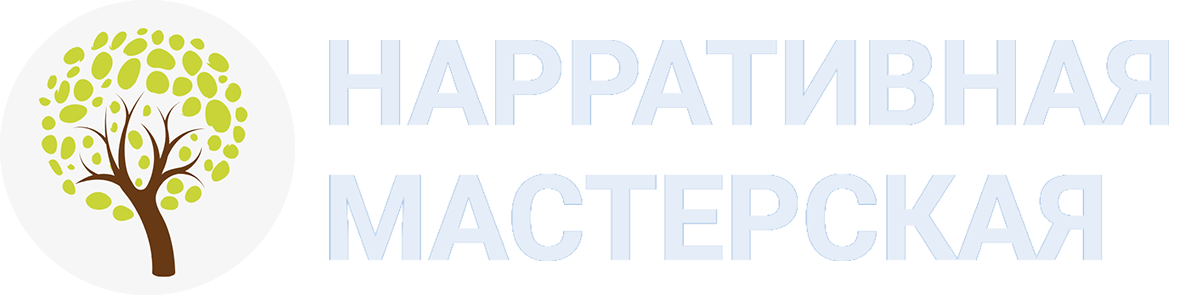Управление файлами cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Конфронтация в нарративной беседе: что это и с чем ее едят
Мастер-класс
- Влад Андрейчук, помощник ведущих нарративной мастерской
- Александр Кузнецов, ведущий нарративной мастерской
Меня зовут Александр Кузнецов
Нарративный практик, супервизор, педагог-психолог
Я совершенно влюблённый в нарративную практику психолог-консультант, одновременно с этим работаю педагогом-психологом. В равной мере уделяю внимание консультированию как подростков, так и взрослых, в сферу моих интересов также входит работа с начинающими психологами-практиками, поскольку я знаю, насколько бывает трудно совершить первые шаги в профессии.
Меня зовут Владислав Андрейчук
Нарративный практик, клинический психолог
Я — нарративный практик в обличие клинического психолога. Я работаю с историей человека, приглашая его к совместному размышлению и сочинительству. Для меня важно уметь восхищаться и уважать каждого человека, как и язык, который он приносит в работу. Таким образом, практика для меня — это акт совместной деятельности. Любые возникающие на пути трудности лишь насыщают процесс.
В процессе обучения и интервизионной/супервизионной деятельности возникало очень много вопросов по поводу конфронтации в нарративной беседе. Мы сочли нужным их подсветить, может быть, открыть что-то новенькое. Сейчас мы на этапе изобретения жанра – и хотим познакомить вас с нашими наработками.
Мы открыты к диалогу и постарались дать пространство для всех вопросов.
Мы открыты к диалогу и постарались дать пространство для всех вопросов.
Конфронтация в нарративной практике
«Конфронтация — это техника из психологического консультирования, общая методология, которая не связана с конкретными подходами, одна из универсальных техник, которая может облачаться в более конкретную форму в зависимости от подхода, ваших взглядов и позиций.»
Идея конфронтации заключается в обращении внимания собеседника (клиента, пациента в других подходах) на аспекты (противоречия и пр.), которые он избегает или не замечает. То есть мы обращаем внимание на что-то, что человек упускает, находим и подсвечиваем противоречия в его словах.
Возникает вопрос — как сочетать конфронтацию, интересный, но конфликтный прием с духом нарративной практики? Спойлер: можно. Более того, если оставаться в позиции нарративного практика, конфронтация показывает себя очень любопытно и более экологично, чем в иных подходах.
Возникает вопрос — как сочетать конфронтацию, интересный, но конфликтный прием с духом нарративной практики? Спойлер: можно. Более того, если оставаться в позиции нарративного практика, конфронтация показывает себя очень любопытно и более экологично, чем в иных подходах.
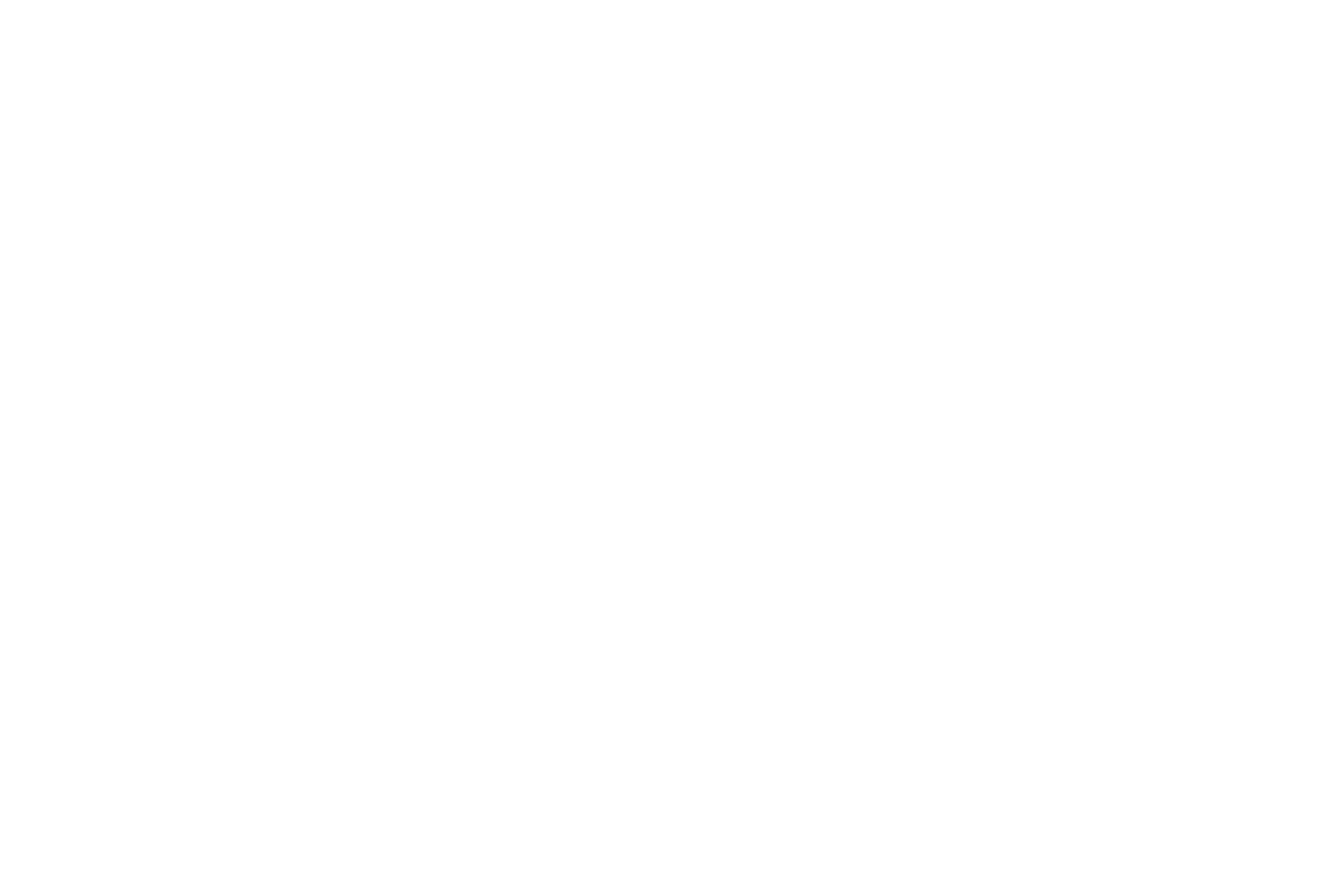
Цели конфронтации
В классическом понимании конфронтация — это противопоставление разных аспектов опыта клиента, о которых он нам говорит, которые он продуцирует, чтобы он сам заметил несоответствие между чем-то и чем-то. Появляется вопрос — а зачем нам, психологам, нарративным практикам, помогающим специалистам, кому угодно, искать несоответствия и показывать их клиенту?
В классическом понимании конфронтация — это противопоставление разных аспектов опыта клиента, о которых он нам говорит, которые он продуцирует, чтобы он сам заметил несоответствие между чем-то и чем-то. Появляется вопрос — а зачем нам, психологам, нарративным практикам, помогающим специалистам, кому угодно, искать несоответствия и показывать их клиенту?
Какова цель конфронтации?
— Подсветить то, что человек не видит. Когда он это проговаривает сам, он думает: «Ой, оказывается вот так, а я никак об этом не думал». Сфокусировать или даже проинформировать о том, что есть некое противоречие в опыте или в восприятии этого опыта. Очень часто человек говорит, что никогда этого не замечал.
— Будто бы встать на защиту чего-то важного и ценного, что, возможно, проседает под действием проблемы, как будто нужна дополнительная помощь человеку. В моменте, когда я использую конфронтацию, я становлюсь на сторону человека против проблемы, мы замечаем эти противоречия и про них говорим.
— Сделать видимым влиятельное, но невидимое.
— Мы спорим с голосом проблемы, но не самим человеком. Тогда цель, возможно, этот голос просто продемонстрировать. Например, когда проблемная история поддерживается сообществом или окружением, но нет голоса, который противостоит проблеме. В каком-то смысле это конфронтация.
— Предложить альтернативный взгляд, дополнить и расширить существующий
— Чтобы лучше увидеть влияние проблемы, сделать его более заметным. Так получается более богатая история.
— Будто бы встать на защиту чего-то важного и ценного, что, возможно, проседает под действием проблемы, как будто нужна дополнительная помощь человеку. В моменте, когда я использую конфронтацию, я становлюсь на сторону человека против проблемы, мы замечаем эти противоречия и про них говорим.
— Сделать видимым влиятельное, но невидимое.
— Мы спорим с голосом проблемы, но не самим человеком. Тогда цель, возможно, этот голос просто продемонстрировать. Например, когда проблемная история поддерживается сообществом или окружением, но нет голоса, который противостоит проблеме. В каком-то смысле это конфронтация.
— Предложить альтернативный взгляд, дополнить и расширить существующий
— Чтобы лучше увидеть влияние проблемы, сделать его более заметным. Так получается более богатая история.
Занятно, что мы заговорили о дискурсах, потому что в нарративной практике самая тривиальная потребность в конфронтации возникает при деконструкции. Мы видим явно конфликтующую идею, от которой не всегда хотим отказываться, и нужно что-то ей противопоставлять. Очень часто деконструкция пользуется как раз поиском противоречий, которые в ходе деконструкции появляются, причем противоречий на многих уровнях — от идей до поведения.
Если смотреть на то, как цели конфронтации выделяются в культурном поле, не сопрягаясь с нарративной практикой, мы выделили основные направления:
Если смотреть на то, как цели конфронтации выделяются в культурном поле, не сопрягаясь с нарративной практикой, мы выделили основные направления:
Цели конфронтации в культурном поле
1. Выявление противоречий в словах клиента
Это нахождение голосов проблем, то есть того, что не соответствуют предпочитаемому. Часто это голоса других людей, которые когда-то отпечатались у человека.
2. Возвращение к реальности
Конфронтация может выполнять заземляющую функцию, которая способствует осознанию на уровне: «ОК, есть это и это, давай немного сверимся, как на самом деле. Ты говоришь об одном, но есть другой опыт».
Очень часто человек при социальной тревожности или в депрессивном состоянии, несмотря на регулярно фиксирующиеся уникальные эпизоды, убежден в том, что есть только так и никак иначе. Этой априорности нужно противопоставить какое-то живое доказательство. Иногда у человека не хватает ресурсов это увидеть, даже когда мы подсвечиваем очень мягко. Иногда приходится возвращать его к реальности и говорить прямым текстом, например: «Мы сейчас выявили такой уникальный эпизод, насколько он сопоставляется с историей про то, что все плохо и вообще никогда ничего не получалось?»
3. Прерывание-избегание
Конфронтация — один из инструментов, который позволяет достаточно мягко и этично подсветить, что мы замечаем какие-то моменты, от которых человек уходит, которые создают препятствия и сложности. Банальный пример — когда мы доходим до определенной точки в терапии, до какого-то вопроса, и у нас стопорится процесс, начинает что-то происходить, я спрашиваю: «Подскажи, пожалуйста, о чем это для тебя»
Многие терапевты в своей практике сталкиваются с проблемой, что беседа идет кругами, раз за разом возвращаясь к одному и тому же, с чем человек сталкиваться не хочет. Конфронтация нужна, в том числе, чтобы сэкономить время, чтобы человек не наматывал этот тревожный круг одинаково, не входил постоянно в проблемный дискурс и не оставался в нем. Иногда конфронтация позволяет прервать цикличность и затерянность.
Это нахождение голосов проблем, то есть того, что не соответствуют предпочитаемому. Часто это голоса других людей, которые когда-то отпечатались у человека.
2. Возвращение к реальности
Конфронтация может выполнять заземляющую функцию, которая способствует осознанию на уровне: «ОК, есть это и это, давай немного сверимся, как на самом деле. Ты говоришь об одном, но есть другой опыт».
Очень часто человек при социальной тревожности или в депрессивном состоянии, несмотря на регулярно фиксирующиеся уникальные эпизоды, убежден в том, что есть только так и никак иначе. Этой априорности нужно противопоставить какое-то живое доказательство. Иногда у человека не хватает ресурсов это увидеть, даже когда мы подсвечиваем очень мягко. Иногда приходится возвращать его к реальности и говорить прямым текстом, например: «Мы сейчас выявили такой уникальный эпизод, насколько он сопоставляется с историей про то, что все плохо и вообще никогда ничего не получалось?»
3. Прерывание-избегание
Конфронтация — один из инструментов, который позволяет достаточно мягко и этично подсветить, что мы замечаем какие-то моменты, от которых человек уходит, которые создают препятствия и сложности. Банальный пример — когда мы доходим до определенной точки в терапии, до какого-то вопроса, и у нас стопорится процесс, начинает что-то происходить, я спрашиваю: «Подскажи, пожалуйста, о чем это для тебя»
Многие терапевты в своей практике сталкиваются с проблемой, что беседа идет кругами, раз за разом возвращаясь к одному и тому же, с чем человек сталкиваться не хочет. Конфронтация нужна, в том числе, чтобы сэкономить время, чтобы человек не наматывал этот тревожный круг одинаково, не входил постоянно в проблемный дискурс и не оставался в нем. Иногда конфронтация позволяет прервать цикличность и затерянность.
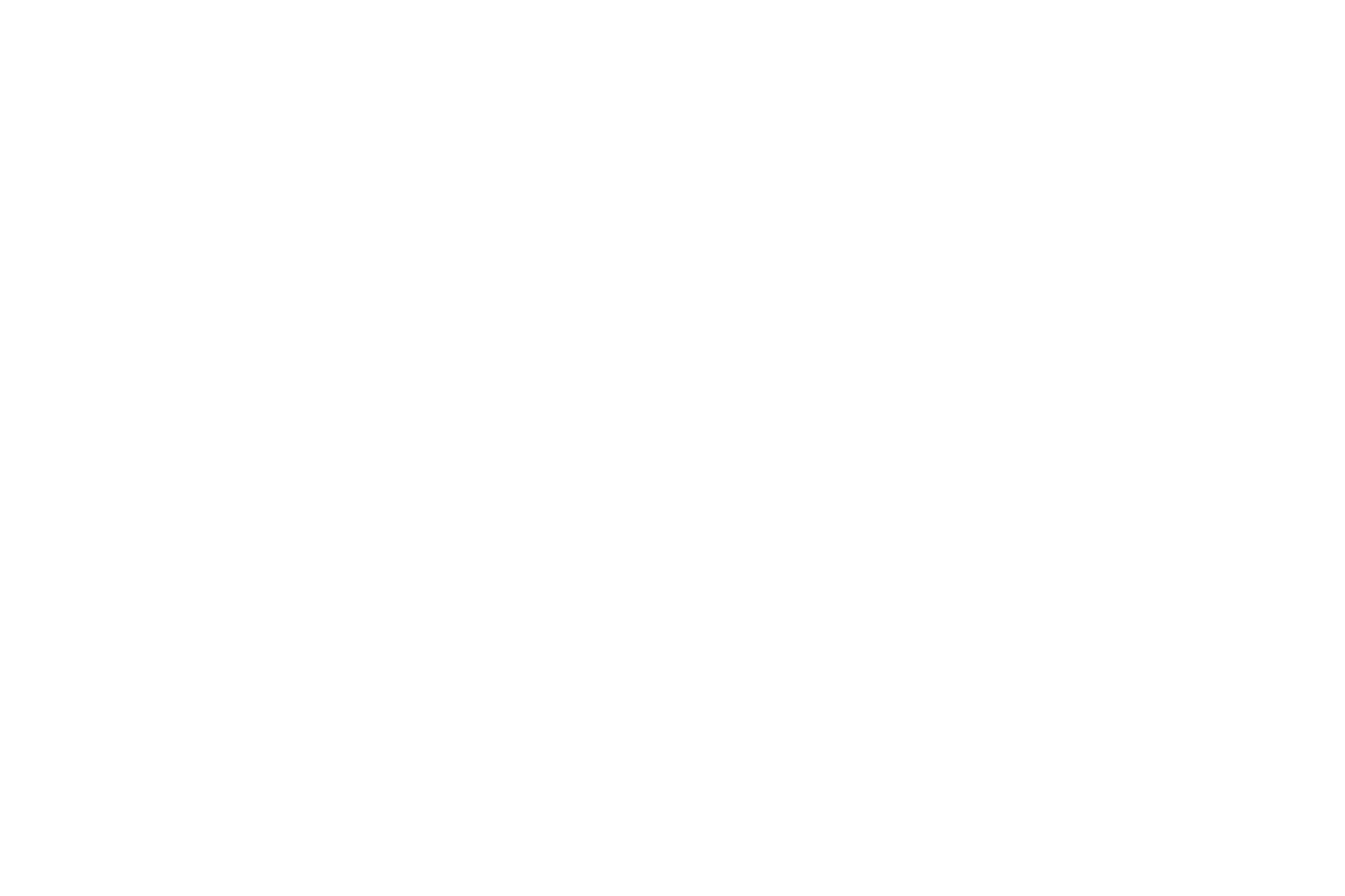
Конфронтация: правила
Задумка нашего мастер-класса в том, чтобы смотреть на конфронтацию, как на технику, которая может использоваться вне зависимости от подхода и степени продвинутости в подходе. Главное, для нарративного специалиста соблюдать действительно очень простые принципы и базовые ценности нарративной практики.
Задумка нашего мастер-класса в том, чтобы смотреть на конфронтацию, как на технику, которая может использоваться вне зависимости от подхода и степени продвинутости в подходе. Главное, для нарративного специалиста соблюдать действительно очень простые принципы и базовые ценности нарративной практики.
Сразу оговоримся, что конфронтацию вне зависимости от применения не стоит использовать в первые 10 минут беседы, и не потому, что это плохо, неправильно или нельзя. Можно все. Но подсвечивание противоречий, замечание несостыковок все-таки требует некоторого доверительного контакта. Ваш собеседник, скорее всего, испытывает некоторую тревогу по поводу того, что он здесь находится. Напротив него сидит человек, скорее всего, в экране, скорее всего, он видит его первый раз, скорее всего, он думает, что психолог будет говорить с ним про маму или про детство, за ним записывать, чтобы потом что-то сделать. В общем, много всяких идей присутствует, и, если с первых минут начать находить в истории человека противоречия и их подсвечивать, чисто на уровне переживания это может восприниматься как «Черт, меня поймали!»
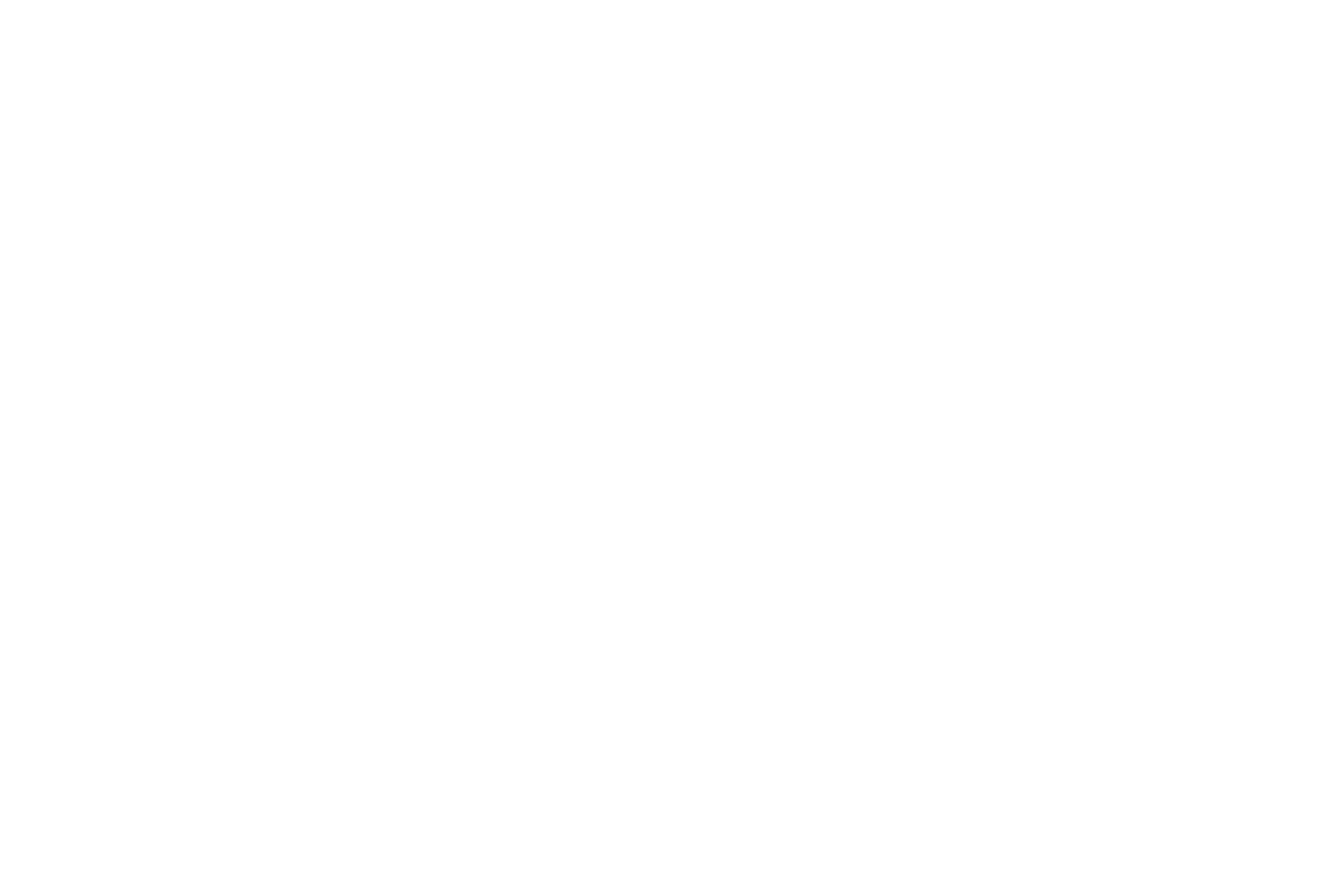
Поэтому даже если мы замечаем в истории человека какие-то несостыковки, то относимся к ним с пониманием и любопытством, и делаем сноску на контакт
Важный момент. Чтобы не возникало дебатерского фона во время разговора с клиентом, перед техниками с риском конфликта с клиентом (конфронтацией, деконструкцией) нужно дать себе немного времени на поиск оснований для того, чтобы использовать этот инструмент. Когда мы начинаем им пользоваться безосновательно, по большому счёту, тычем пальца в небо.
Есть два основных правила конфронтации, и они достаточно тривиальны. Интересно, что выделены они еще в 70-х годах, но лучше до сих пор никто не придумал.
Есть два основных правила конфронтации, и они достаточно тривиальны. Интересно, что выделены они еще в 70-х годах, но лучше до сих пор никто не придумал.
-
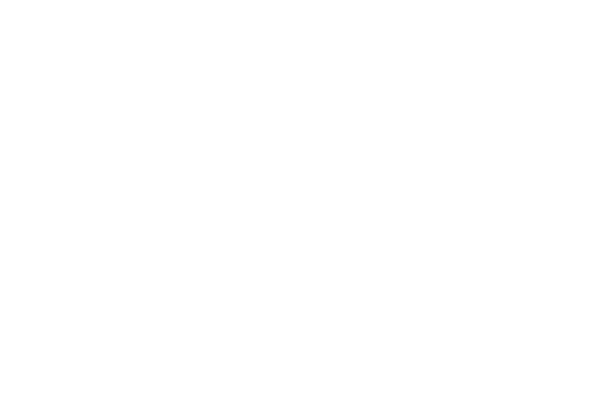 Конфронтация ≠ наказание клиентаПравило логично вытекает из принципов и ценностей нарративной практики, но не так очевидно для многих. Мы используем конфронтацию не для наказания клиента, не говорим: «Ага, попался! Ты сейчас сказал вот это, а до этого говорил вот это». Конфронтация — точно не способ выразить свой негатив по отношению к тому, что говорит собеседник, не попытка его подловить, поймать, пристыдить, это способ выйти из проблемных дискурсов, проблемных позиций к альтернативным предпочитаемым идеям.
Конфронтация ≠ наказание клиентаПравило логично вытекает из принципов и ценностей нарративной практики, но не так очевидно для многих. Мы используем конфронтацию не для наказания клиента, не говорим: «Ага, попался! Ты сейчас сказал вот это, а до этого говорил вот это». Конфронтация — точно не способ выразить свой негатив по отношению к тому, что говорит собеседник, не попытка его подловить, поймать, пристыдить, это способ выйти из проблемных дискурсов, проблемных позиций к альтернативным предпочитаемым идеям. -
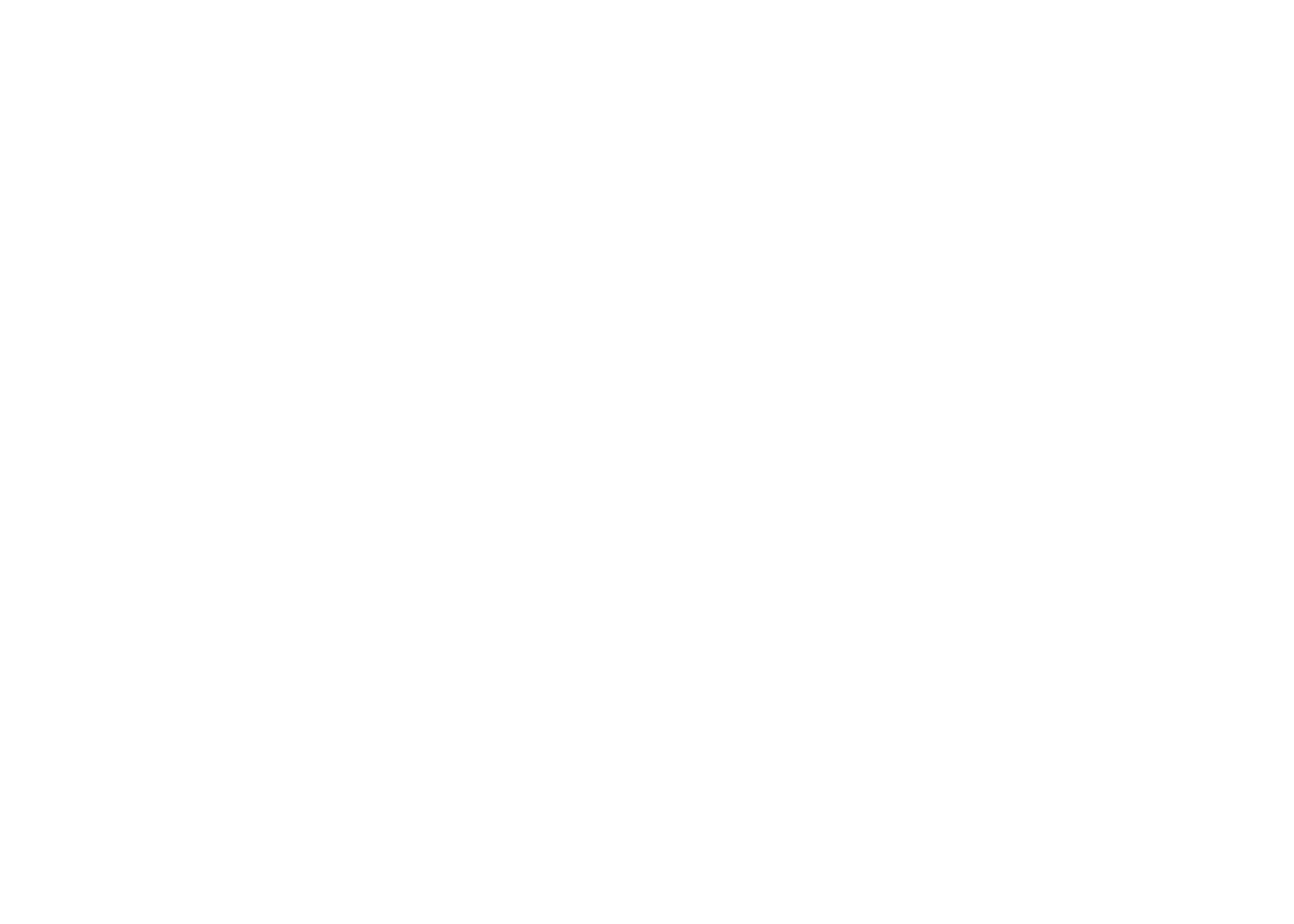 Конфронтация в первую очередь — это помогающий методВторое правило не менее тривиально — конфронтация не должна служить для того, чтобы преодолевать что-то непроблемное, то есть какие-то методы психологической защиты клиента, предпочитаемые дискурсы, либо что-то в этом роде. Не нужно противопоставлять человеку то, что в принципе ему нравится, его устраивает и вроде бы как проблем ему не дает, даже если вы подмечаете для себя что-то вам не подходящее либо не подходящее клиенту по вашему мнению.
Конфронтация в первую очередь — это помогающий методВторое правило не менее тривиально — конфронтация не должна служить для того, чтобы преодолевать что-то непроблемное, то есть какие-то методы психологической защиты клиента, предпочитаемые дискурсы, либо что-то в этом роде. Не нужно противопоставлять человеку то, что в принципе ему нравится, его устраивает и вроде бы как проблем ему не дает, даже если вы подмечаете для себя что-то вам не подходящее либо не подходящее клиенту по вашему мнению.
Эмпатическая конфронтация
Конфронтация — это, в том числе, способ движения терапии. Эту технику мы используем, чтобы продвинуться куда-то, а не укрепиться в чем-то самостоятельном. Здесь работают те же базовые операторы, слова и фразы, которые мы используем при задавании вопросов от банальных «мне кажется», «я заметил», «смотри, в твоей истории я услышал» и так далее.
Конфронтация — это, в том числе, способ движения терапии. Эту технику мы используем, чтобы продвинуться куда-то, а не укрепиться в чем-то самостоятельном. Здесь работают те же базовые операторы, слова и фразы, которые мы используем при задавании вопросов от банальных «мне кажется», «я заметил», «смотри, в твоей истории я услышал» и так далее.
Наш стиль — это эмпатическая конфронтация, то есть конфронтация, в которой терапевт высказывает свои замечания из желания беседу продвинуть, а не поймать человека на противоречиях
Наш стиль — это действительно подсвечивание чего-то и приглашение человека задуматься об этом.
Неискренность на самом деле чувствуется, на ней очень легко поймать. В диалоге тет-а-тет резко видно, с какой целью ты начинаешь выходить в конфронтацию или деконструкцию и задавать соответствующие вопросы. Искренний интерес — это одна из соломок, которые можно подстелить, чтобы конфронтация не ощущалась небезопасной для человека.
Неискренность на самом деле чувствуется, на ней очень легко поймать. В диалоге тет-а-тет резко видно, с какой целью ты начинаешь выходить в конфронтацию или деконструкцию и задавать соответствующие вопросы. Искренний интерес — это одна из соломок, которые можно подстелить, чтобы конфронтация не ощущалась небезопасной для человека.
— Я так слышу, что с одной стороны, это конфронтация внутри того, что рассказывает клиент, а мы показываем, что эти идеи между собой не сходятся. А с другой стороны, здесь, видимо, конфронтация в том, что я, как терапевт, не даю клиенту абсолютно гладкий опыт, являюсь немножко препятствием. Я говорю: «Кажется, в твоих историях эти идеи не очень дружат, давай посмотрим туда», а клиент отвечает: «Что ты делаешь, отпусти мои идеи, все нормально было!».
— Да, иногда возникает неприятная, очень гадская необходимость быть неприятным для клиента, некоторым препятствием, потому что в противном случае прозрачность нарушается. Если мы по пятам клиента пойдем плутать кругами, во-первых, просто потратим очень много времени, причем, возможно, даже без результата, во-вторых, это тоже про ценности. Прозрачность, в том числе, нужна для того, чтобы прозрачно подсвечивать противоречия.
— Идея про живой опыт близка. Я бы сформулировала так, что это вообще про то, как клиент обходится со своим опытом, и мы ему даем возможность обойтись с этим опытом как-то еще, именно потому, что мы в этом взаимодействии присутствуем как другой живой человек.
Да, потому что мы в нарративной практике не табула раса, не просто машина бесконечного и беспощадного принятия каждой реплики. Мы люди со своим опытом, со своими взглядами, со своей позицией. И в ней важен контакт. Бывают забавные ситуации: часто, когда идешь в конфронтацию, клиенты говорят: «Зачем ты это заметила? Все было так логично и стройно». Это не про то, что ты меня поймала, а про то, что контакт есть, человек на это среагировал, и мы можем дальше продолжать работу.
— Да, иногда возникает неприятная, очень гадская необходимость быть неприятным для клиента, некоторым препятствием, потому что в противном случае прозрачность нарушается. Если мы по пятам клиента пойдем плутать кругами, во-первых, просто потратим очень много времени, причем, возможно, даже без результата, во-вторых, это тоже про ценности. Прозрачность, в том числе, нужна для того, чтобы прозрачно подсвечивать противоречия.
— Идея про живой опыт близка. Я бы сформулировала так, что это вообще про то, как клиент обходится со своим опытом, и мы ему даем возможность обойтись с этим опытом как-то еще, именно потому, что мы в этом взаимодействии присутствуем как другой живой человек.
Да, потому что мы в нарративной практике не табула раса, не просто машина бесконечного и беспощадного принятия каждой реплики. Мы люди со своим опытом, со своими взглядами, со своей позицией. И в ней важен контакт. Бывают забавные ситуации: часто, когда идешь в конфронтацию, клиенты говорят: «Зачем ты это заметила? Все было так логично и стройно». Это не про то, что ты меня поймала, а про то, что контакт есть, человек на это среагировал, и мы можем дальше продолжать работу.
Особенности конфронтации в рамках нарративной практики
Как, где и почему может помочь конфронтация в нарративной практике?
Как, где и почему может помочь конфронтация в нарративной практике?
Мы рассказали, как мы это видим. Интересно, какие вы видите особенности и нюансы, что уже знаете, что уже используете?
· Анализ и решение в контексте зоны ближайшего развития
— Это обсуждение с клиентом решения в зоне ближайшего развития — не слишком далекий шаг, не слишком быстрый, резкий, может быть, не сейчас, а чуть позже. А может, вообще не надо сюда идти, если это вызывает явно неспособность найти решение.
· Облегчение предъявления противоречий в словах клиента
— В нарративной практике очень удобно делать шаг наверх в таких ситуациях. У нас уже есть описание того, что происходит. Там могут быть влиятельные истории, дискурсы или эмоции, которые каким-то образом влияют. Это очень сильно облегчает обозначение конфликта, потому что мы можем не просто констатировать, что одна идея противоречит другой, а сказать: «Кажется, когда на вас влияет такое состояние, вы видите это таким образом, что обесценивает ваш опыт»
· Нарративная позиция терапевта — заинтересованная, а не подавляющая и принижающая
Действительно, это та история, которую мы, как нарративные практики, можем подавать достаточно легко из разряда: «Слушай, ты сейчас рассказал историю. Хочется прояснить — ты сказал А, сейчас говоришь Б — как это вообще соотносится? О чем это для тебя?». Например, человек говорит, что он отвратителен в публичных выступлениях, вообще чувствует себя ужасным позорищем, но при этом может рассказывать истории про успешные, с нашей точки зрения, социальные интеракции. На самом деле это может быть для него вообще о разном, поэтому любопытно узнать, как это он воспринимает, является ли для него это противоречием.
— Это обсуждение с клиентом решения в зоне ближайшего развития — не слишком далекий шаг, не слишком быстрый, резкий, может быть, не сейчас, а чуть позже. А может, вообще не надо сюда идти, если это вызывает явно неспособность найти решение.
· Облегчение предъявления противоречий в словах клиента
— В нарративной практике очень удобно делать шаг наверх в таких ситуациях. У нас уже есть описание того, что происходит. Там могут быть влиятельные истории, дискурсы или эмоции, которые каким-то образом влияют. Это очень сильно облегчает обозначение конфликта, потому что мы можем не просто констатировать, что одна идея противоречит другой, а сказать: «Кажется, когда на вас влияет такое состояние, вы видите это таким образом, что обесценивает ваш опыт»
· Нарративная позиция терапевта — заинтересованная, а не подавляющая и принижающая
Действительно, это та история, которую мы, как нарративные практики, можем подавать достаточно легко из разряда: «Слушай, ты сейчас рассказал историю. Хочется прояснить — ты сказал А, сейчас говоришь Б — как это вообще соотносится? О чем это для тебя?». Например, человек говорит, что он отвратителен в публичных выступлениях, вообще чувствует себя ужасным позорищем, но при этом может рассказывать истории про успешные, с нашей точки зрения, социальные интеракции. На самом деле это может быть для него вообще о разном, поэтому любопытно узнать, как это он воспринимает, является ли для него это противоречием.
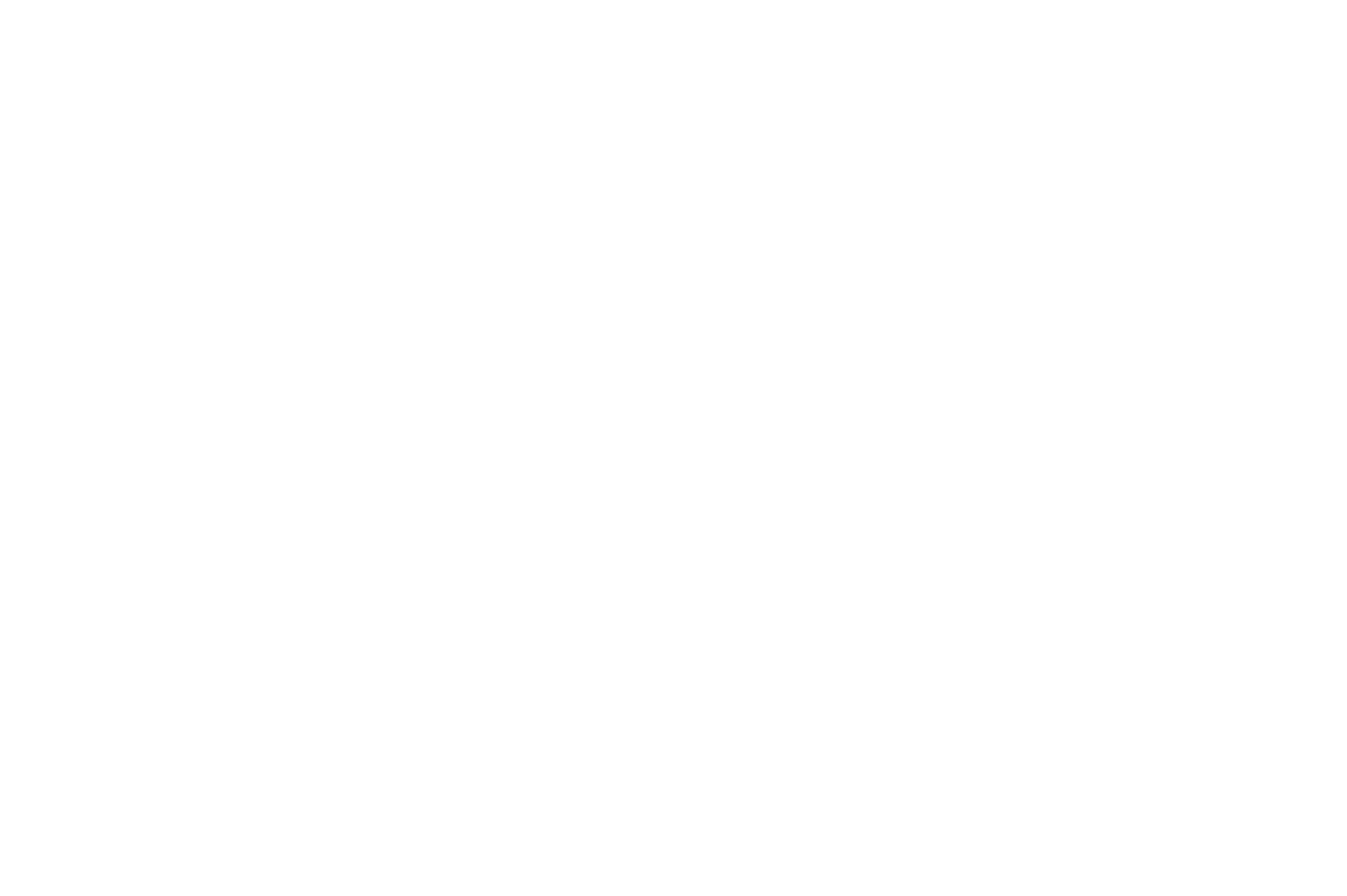
Применение конфронтации в нарративной практике
Хотим дать какую-то опору тем, кто хочет опробовать конфронтацию в своей работе.
Хотим дать какую-то опору тем, кто хочет опробовать конфронтацию в своей работе.
Когда конфронтация уместна:
- Нелогичные противоречивые сообщения.
- Противоречие между запросом и процессом.
- Сложности с выражением эмоций
— Да, иногда это очень полезно. Человек вдруг вообще замечает, что он что-то чувствует, или что-то вообще с ним происходит, или как он как-то на это реагирует. Хотя до этого ему казалось, что все нормально.
— Это он думает, что не выражает. Но у него меняется состояние. Иногда я даже могу заметить, что взгляд меняется, он будто куда-то смотрит. Когда про это говорю, человек соглашается: «Да, действительно, не знаю, как это назвать, но что-то со мной происходит».
С такими собеседниками важно оставаться в общей экологической базе (быть аккуратным и так далее), потому что обычно им такое подсвечивание не очень подходяще и комфортно. Но мы помним, для чего мы это делаем. Мы не подглядываем за человеком, отмечая, что у него как-то изменилась интонация, речь, взгляд просто для того, чтобы это подсветить, а для того, чтобы действительно прояснить этот момент.
- Смещение акцентов (фокуса)
Действительно, часто бывает, что люди пытаются говорить о других людях и выйти на терапию третьих лиц. Здесь мы можем конфронтировать и подсветить даже на уровне сеттинга. Это тоже очень важный момент конфронтации — противопоставление позиции и цели терапии, зачем мы вообще здесь находимся и что мы можем. Конфронтация в этом плане может быть очень вариативна по уровням абстракции — от мета-моментов организации, до более конкретных эмоций, чувств и так далее.
На самом деле подсвечивание ожиданий от терапии тоже может быть конфронтирующим моментом. Возможно, человек думает, что терапия — это прийти, рассказать о том, что его партнер отстойный, и узнать, как исправить своего партнера. Человек может быть искренне уверен, что хочет именно этого. Мы можем попробовать сместить его фокус и сопоставиться в целях. Но мы об этом не узнаем, если об этом не поговорим.
- Сопротивление терапии
Важный момент, что сеттинг и вообще процесс нарративной практики — это договор двух людей. Мы говорим о сопротивлении, скорее, в контексте нарушения договора — мы сначала договорились об одном, пожали друг другу руки, вроде работаем, а по итогу выходит совершенно другое.
Встречаются люди, которые приходят «оттерапевтировать» терапевта: «Сейчас я приду, и терапевт себя плохо почувствует, меня ни один психолог за 15 лет не взял». В этом тоже есть какой-то интерес. Если человек продолжает третировать психологов год за годом, то чисто из позиции любопытства нарративного практика неплохо было бы об этом подговорить — что человеку дает такая позиция в терапии, является ли она для него по-настоящему терапевтичной, либо это просто его хобби за деньги.
Мы говорим об этом в контексте конфронтации, потому что на самом деле, как уже говорили, цель конфронтации — продвижение терапии. А когда вы понимаете, что друг к другу не подходите, пришли сюда с разными целями и пора закончить работу — это очень хорошее продвижение терапии. Оно прямо продвигает её от начала и до конца. И мы не должны бояться таких результатов.
«Любая терапия — это межличностное взаимодействие, любое межличностное взаимодействие в контексте терапии — это симуляция жизненного опыта. Даже такой опыт отказа от терапии, когда терапевт прямым текстом говорит: «Нужна ли вам терапия на самом деле, зачем вы сюда приходите?»
— Я подумала еще про особенности нарративной практики. В других подходах мы считаем, что подсвечиваем противоречие, которое 100% действительно есть, а в нарративной практике больше говорим о том, что видим противоречие. То есть я его вижу, об этом говорю, но не считаю, что оно 100% есть, и как раз хочу узнать. Например, клиент выражает эмоции странно для меня, и я узнаю, что он действительно так выражает эмоции, а не закрывается таким образом.
Из этого следует вывод, что конфронтация не обладает правом интерпретации, это особенность нарративной практики — мы априорность своего опыта ставим под сомнение, мы такая же личность, которой свойственно ошибаться, на которую влияют какие-то дискурсы.
«На самом деле глобальная конфронтации и подсвечивание противоречия — выход к авторской позиции. Мы человека разворачиваем к тому, что это он принимает решение делать что-то или что-то не делать. Решение что-то не делать — это тоже выбор. Это помогает вернуться к авторской позиции и на нее немного опереться.»
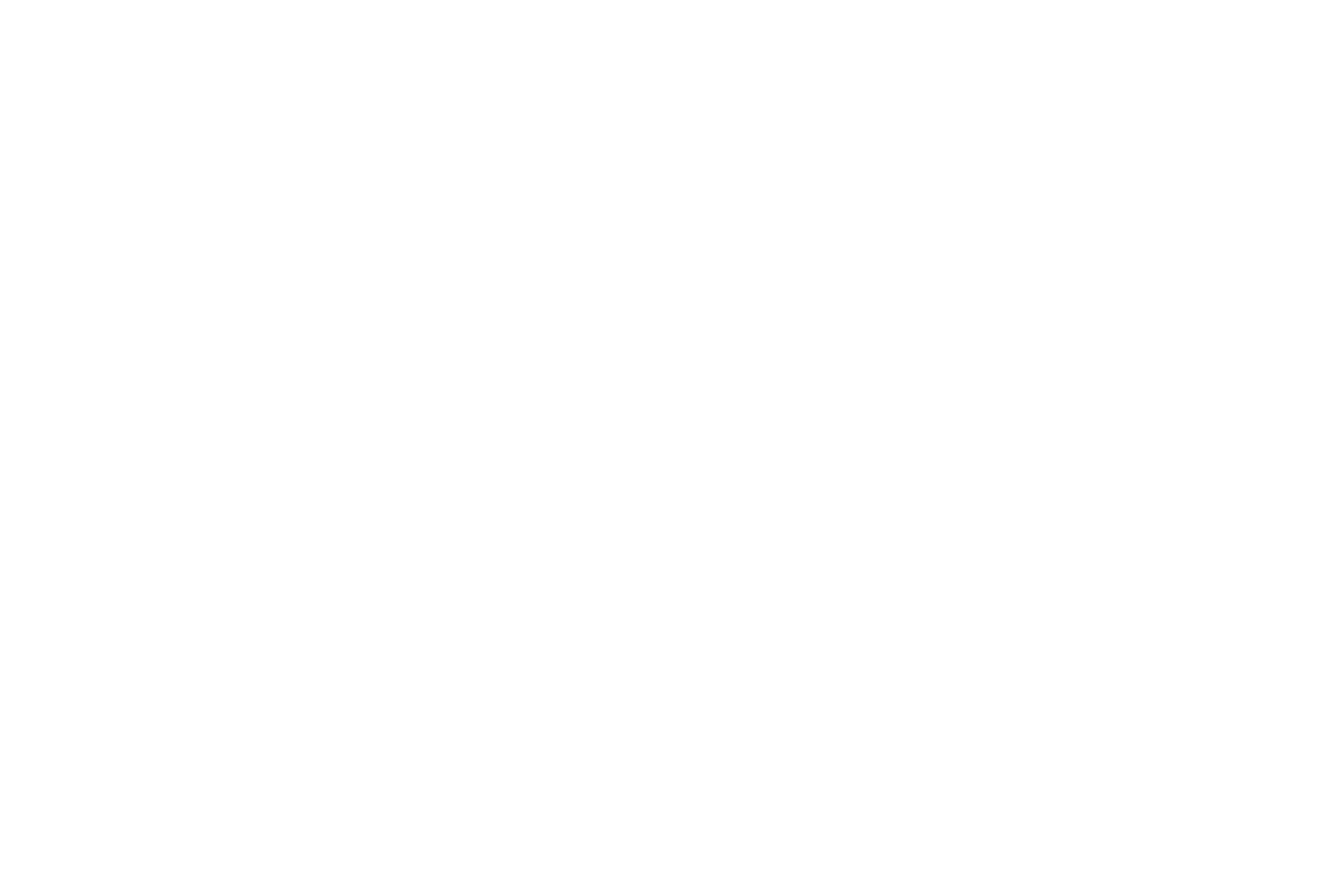
Важный методологический дисклеймер
Майкл Уайт вообще не поддерживал диалог с прямой конфронтацией. Именно поэтому мы с уважением к Майклу Уайту предлагаем немножечко обновленную методологию — не прямую конфронтацию, а приглашение к разговору. Это не создает классического привычного мейнстримного понимания конфронтации, но при этом немного стравливает конфликты и помогает методу реализоваться.
Майкл Уайт вообще не поддерживал диалог с прямой конфронтацией. Именно поэтому мы с уважением к Майклу Уайту предлагаем немножечко обновленную методологию — не прямую конфронтацию, а приглашение к разговору. Это не создает классического привычного мейнстримного понимания конфронтации, но при этом немного стравливает конфликты и помогает методу реализоваться.
Как это можно делать?
Формула классической конфронтации:
Также хотим подсветить, что иногда конфронтация приходит со стороны клиента. Ему просто не нравится какое-то слово, например, «например», которое вы используете постоянно, его бесит. Конфронтация закончилась, вы обсудили конфликт в мета-терапевтическом процессе про язык терапевта — вроде бы хорошо, терапия движется, делаем вопросы без «например», например, и на эти вопросы клиент уже отвечает. Бывает что-то более глубокое, но тут уже зависит от контекста.
Вы сделали А, но говорите Б — что такое?
В контексте нарративной практики мы можем переиначить эту формулу, ведь нарративная практика про вопросы и про работу с языком:Как вам удается говорить А, учитывая, что вы продолжаете делать Б?
Немножко больше именно нарративного словаря при правильном подходе и формировании собственного стиля может смягчить очень резкие вопросы и очень резкую форму. Это позволяет, срезая на поворотах и скругляя углы, безопасно говорить на потенциально неприятные темы самым экологичным и очень нарративным образом, без авторитарности со стороны терапевта.Также хотим подсветить, что иногда конфронтация приходит со стороны клиента. Ему просто не нравится какое-то слово, например, «например», которое вы используете постоянно, его бесит. Конфронтация закончилась, вы обсудили конфликт в мета-терапевтическом процессе про язык терапевта — вроде бы хорошо, терапия движется, делаем вопросы без «например», например, и на эти вопросы клиент уже отвечает. Бывает что-то более глубокое, но тут уже зависит от контекста.
Таким образом, мы хотим сказать о том, что конфронтация пускай и считается сложным приемом в терапии, но представляется нам важным на пути становления практика. По мере накопления профессионального опыта, консультирующий специалист так или иначе будет сталкиваться с обозначенными в Мастер-Классе проблемами, и конфронтация — один из ведущих способов корректно на них реагировать