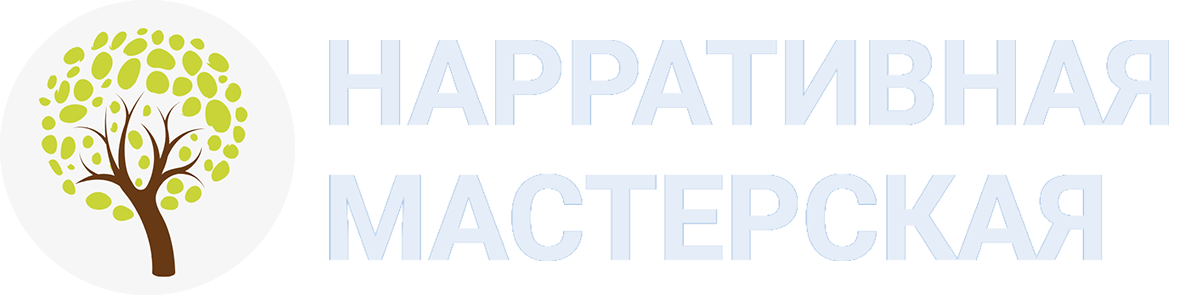Управление файлами cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АЗАРТА: МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ УЧЕБА ДОСТАВЛЯЛА НАШИМ ДЕТЯМ РАДОСТЬ?
Если мы говорим про наших детей, вопрос не в том, что мы предоставляем ребенку возможности, а в том, станет ли ребенок тем самым внутренним собеседником по отношению к тем книжкам, которые ему дают?
Философ, психолог, педагог, доктор психологических наук, профессор Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества, автор широко известных книг по философии культуры и психологии творчества, специалист в психолого-педагогическом сопровождении школ и детских садов
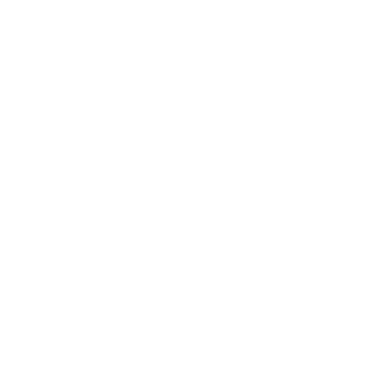
Александр Лобок
Можно ли сделать так, чтобы учеба (и чтение, в частности) доставляла нашим детям удовольствие, чтобы они учились с азартом – вопрос, волнующий и родителей, и педагогов. Чтобы понять суть проблемы, можно провести аналогию с библиотеками.
В мире существует множество разных библиотек – публичные и научные, личные и школьные, маленькие сельские и огромные национальные. Проблема заключается в том, что библиотеки бывают мертвыми, если там не появляется читатель. Библиотека – это письмена, в которых пропадает культура, пока туда не придет человек, готовый это читать. Я могу написать 150 разных книжек, вопрос заключается в том, есть ли хотя бы один по-настоящему читатель этих книг?
В мире существует множество разных библиотек – публичные и научные, личные и школьные, маленькие сельские и огромные национальные. Проблема заключается в том, что библиотеки бывают мертвыми, если там не появляется читатель. Библиотека – это письмена, в которых пропадает культура, пока туда не придет человек, готовый это читать. Я могу написать 150 разных книжек, вопрос заключается в том, есть ли хотя бы один по-настоящему читатель этих книг?
Если мы говорим про наших детей, вопрос не в том, что мы предоставляем ребенку возможности, а в том, станет ли ребенок тем самым внутренним собеседником по отношению к тем книжкам, которые ему дают? И неважно, это Шекспир, Лев Толстой, или приключения Ната Пинкертона, на которых воспитывался Максим Горький, в то время еще Алеша Пешков. Вопрос не в том, что ему дают, а насколько он сумеет даваемое ему сделать своим. Или, говоря не простыми словами - возможна ли субъектность (такое ругательно-банальное слово для психологов).
Мы все прекрасно понимаем – чтобы образование состоялось, ребенок должен стать субъекто. Но когда мы начинаем делать ребенка субъектом, он перестает быть таковым ровно в этот момент! Ловушка, в которую попадает и развивающее образование тоже, заключается в следующем. Когда мы моделируем подстилку для своего ребенка или кого-то еще – создаем условия, в рамках которых его субъектность будет пробуждена, заранее зная, как это будет, и как это правильно для него, это уже не субъектность, а тонкая и изощренная манипуляция. И в какой-то момент ребенок понимает это и посылает нас куда подальше со всей нашей культурой – но, к счастью, именно в этот момент он и становится личностью.
Мы все прекрасно понимаем – чтобы образование состоялось, ребенок должен стать субъекто. Но когда мы начинаем делать ребенка субъектом, он перестает быть таковым ровно в этот момент! Ловушка, в которую попадает и развивающее образование тоже, заключается в следующем. Когда мы моделируем подстилку для своего ребенка или кого-то еще – создаем условия, в рамках которых его субъектность будет пробуждена, заранее зная, как это будет, и как это правильно для него, это уже не субъектность, а тонкая и изощренная манипуляция. И в какой-то момент ребенок понимает это и посылает нас куда подальше со всей нашей культурой – но, к счастью, именно в этот момент он и становится личностью.
Поскольку у нас тема про образование, то давайте для примера возьмем учебник. Ну, например учебник физики за 8-й класс. Многие ли дети любят физику в 8-м классе и получают от нее наслаждение? Вопрос риторический. Тогда вопрос следующий: можно ли сделать так, чтобы ребенок и физику полюбил, и чтобы субъектность не оказалась нарушена нашей изощренной педагогической манипуляцией? Понятно, что она безусловно нарушится, если учитель будет делать какие-то изощренные манипулятивные ходы, в результате которых «впендюрит» в него эту физику, и чем изощреннее он будет это делать, тем хуже, на самом деле, будет и для учителя, и для ученика. Потому, что тем дальше ребенок потом пошлет и школу, и старательного педагога, и правильно сделает.
Таким образом, поставленная задача выглядит практически нерешаемой. Но обратимся к опыту самих детей.
Таким образом, поставленная задача выглядит практически нерешаемой. Но обратимся к опыту самих детей.
Как себя обычно спасают
дети, если им приходится
учить что-то, что они терпеть не могут?
дети, если им приходится
учить что-то, что они терпеть не могут?
Как себя обычно спасают дети, если им приходится учить что-то, что они терпеть не могут? Как мы сами себя спасали в свое время в аналогичных ситуациях? Существует очень много изобреталовок, которые спасают, причем иногда дети даже не догадываются, что это - изобреталовка, которая спасает. Одна из самых распространенных такого рода изобреталовок – шпаргалка. Когда перед экзаменом ребенок пытается уместить текст учебника на маленький листочек, он решает совершенно квестовую задачу – как нечто большое разместить на микроноситель. Причем само содержание шпаргалки уже не так важно. Усвоение этого содержания – совершенно побочный эффект. Главное же здесь – собственная ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ деятельность ребенка по размещению большого в малом. Просто учить физику – скучно. А вот попробовать разместить ее в маленькой шпаргалке – это уже, как выражаются дети, «прикольно». И это уже безусловно СОБСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ребенка. Но при этом включается и боковое, побочное зрение. Ребенок изобретает и создает шпаргалку – а боковым зрением усваивает скучный и ненавистный материал.
Как быть изобретательным?
Или другой типичный пример. В невероятно далекие времена, когда я сам был учеником 10-го класса, на скучнейших уроках Истории СССР мы с друзьями занимались активной деятельностью по разрисовыванию учебника смешными картинками и комментариями. И это безусловно помогало усваивать учебный материал, причем в несомненно деятельностном режиме. Мы пририсовывали всякие смешные штучки к разного рода фотографиям, мы сочиняли смешные реплики и вкладывали их вуста серьезных исторических деятелей , и это было ужасно весело и смешно. Мы разрушали сверхсерьезное отношение к тому, к чему невозможно было относиться серьезно. А побочный эффект заключался в том, что учебник переставал быть отчужденным, но становился «своим».
Таким образом, речь должна идти в первую очередь не о том, как создать некий «образовательный контент», предназначенный для того, чтобы быть вложенным в голову ребенка, а о том, как помочь этой голове быть по-настоящему мыслящей головой, способной ЛЮБОЙ контент превратить в материал эффективной критическойработы. И лишь во вторую очередь следует думать о собственно «контенте».
Ведь Хитрость заключается в том, что школа – это такой институт, смысл которого не столько в том, чтобы что-то «дать»детям, сколько в том, чтобы предоставить сумму испытаний, преодолевая которые, ребенок делает себя сам. И это было во все школьные времена. Образование – это то, что в принципе нельзя «дать». Образование – это то, что человек ДЕЛАЕТ САМ. Преодолевая разные испытания в разных информационно-образовательных полях, он ОБРАЗУЕТСЯ – как личность, как некая самость, как некая субъектность. У него формируется собственное «Я» - внутри математики и языка, внутри биологии и химии, внутри всех тех образовательных пространств, в которых ему удается побывать…. И естественно, что это собственное «Я» у всех людей, совершающих путешествия в тех или иных образовательных предметностях, формируется совершенно по-разному. И чем более мощно актуализуется собственное «Я» внутри того или иного предмета, тем более «образованным» оказывается в данной области человек.
Ведь Хитрость заключается в том, что школа – это такой институт, смысл которого не столько в том, чтобы что-то «дать»детям, сколько в том, чтобы предоставить сумму испытаний, преодолевая которые, ребенок делает себя сам. И это было во все школьные времена. Образование – это то, что в принципе нельзя «дать». Образование – это то, что человек ДЕЛАЕТ САМ. Преодолевая разные испытания в разных информационно-образовательных полях, он ОБРАЗУЕТСЯ – как личность, как некая самость, как некая субъектность. У него формируется собственное «Я» - внутри математики и языка, внутри биологии и химии, внутри всех тех образовательных пространств, в которых ему удается побывать…. И естественно, что это собственное «Я» у всех людей, совершающих путешествия в тех или иных образовательных предметностях, формируется совершенно по-разному. И чем более мощно актуализуется собственное «Я» внутри того или иного предмета, тем более «образованным» оказывается в данной области человек.
Преодолевая разные
испытания в разных
информационно-
образовательных полях,
человек образуется как личность.
В русском языке, кстати, само слово «образование» с его корнем «раз» означает возникновение некоей единичности, некоей отдельной сущности. Таково образование гор и морей, тропических тайфунов или банальной трещины в стене. И то же самое, когда мы говорим про образование человека. «Образованный человек» - это человек до некоторой степени ВОЗНИКШИЙ. Возникший (=образовавшийся) как математик или инженер, как литератор или простой сапожник. Что такое образование человека, образование личности? Естественно, возникновение - личность образовывается, возникает в процессе образования, и на 90% это делает самостоятельно. И то же самое, когда мы говорим про образование профессионала. И здесь вопрос не просто в том, какие даются человеку «учебные программы», а то, как он «присваивает» эти учебные программы, т.е. делает эти программы предметом для актуализации своего «Я» (своего понимания, своих интерпретаций, своего мышления, своего чувствования).
И тогда образованный человек – не тот, кто «заучил» эти учебные программы, но тот, кто их именно ОСВОИЛ, т.е. наполнил соей самостью, своей субъектностью, своим переживанием и своим мышлением. Проживая себя в разных образовательных средах человек в каком-то смысле рождает себя впервые и в процессе своего образования он может на самом деле множественно создавать себя впервые, каждый раз обнаруживая себя нового! И только в этом случае те образовательные условия, которое ему дают, становятся для него фактором его реального образования, в котором происходит процесс становление его «Я», его идентичности, его индивидуальности и способности быть самим собой, но – по отношению к культуре – физике, математике, и так далее. Это и есть базовый механизм образования.
И тогда образованный человек – не тот, кто «заучил» эти учебные программы, но тот, кто их именно ОСВОИЛ, т.е. наполнил соей самостью, своей субъектностью, своим переживанием и своим мышлением. Проживая себя в разных образовательных средах человек в каком-то смысле рождает себя впервые и в процессе своего образования он может на самом деле множественно создавать себя впервые, каждый раз обнаруживая себя нового! И только в этом случае те образовательные условия, которое ему дают, становятся для него фактором его реального образования, в котором происходит процесс становление его «Я», его идентичности, его индивидуальности и способности быть самим собой, но – по отношению к культуре – физике, математике, и так далее. Это и есть базовый механизм образования.
Мастер-класс «Дырчатое чтение»
А теперь поэкспериментирем с тем, как возможна активизация человеческой субъектности по отношению к тому, что исходно кажется совершенно неинтересным и чуждым нашему «Я».
Вот у меня в руках совершенно случайно оказался учебник физики для восьмого класса, который я только что прихвалтил на каком-то книжном развале. Сомневаюсь, что среди вас найдется кто-то, кто будет читать этот учебник с радостным энтузиазмом. Но я сейчас покажу вам довольно простую технологию (я называю эту технологию «!дырчатое чтение»), которая резко активизирует вашу субектность и сделает чтение этого заведомо скучного учебника чем-то весьма и весьма интересным и даже захватывающим.
Итак, первым делом открываю этот учебник в заведомо произвольном месте. Абсолютно наугад. Подчеркиваю, это «наугад» является чрезвычайно важным. Важно, что ни я, ни вы не знаем заранее, что нам «выпадет», как с нами распорядится судьба.
Вот у меня в руках совершенно случайно оказался учебник физики для восьмого класса, который я только что прихвалтил на каком-то книжном развале. Сомневаюсь, что среди вас найдется кто-то, кто будет читать этот учебник с радостным энтузиазмом. Но я сейчас покажу вам довольно простую технологию (я называю эту технологию «!дырчатое чтение»), которая резко активизирует вашу субектность и сделает чтение этого заведомо скучного учебника чем-то весьма и весьма интересным и даже захватывающим.
Итак, первым делом открываю этот учебник в заведомо произвольном месте. Абсолютно наугад. Подчеркиваю, это «наугад» является чрезвычайно важным. Важно, что ни я, ни вы не знаем заранее, что нам «выпадет», как с нами распорядится судьба.
- АМ: Для подъема…
(В этот момент АМ делает театральную паузу и подбадривает аудиторию жестами, пока кто-то не догадывается, чего же ждет ведущий, и предлагает СВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ:
- Тяжести!
- АМ: «Для подъема тяжести» – круто, здорово!
И возвращается к тексту:
АМ: «Для подъема затонувших…»
- Судов!
АМ: Для подъема затонувших судов используют…
- Краны?
- АМ (смеясь): «…используют понтоны».
И продолжает читать:
АМ: «Большие…»
- надувные подушки!
- АМ: « надувные подушки – здорово, но нет!
АМ: –« Большие металлические…»
- Конструкции?
- « Большие металлические конструкции» – Вы умница, почти!
АМ: «Большие металлические бочки сначала…
- Привязывают?
- АМ: «Привязывают – умница! Почему Вы умница – потому Вы синтаксис улавливаете. Но нет.
АМ: « Большие металлические бочки сначала заполняют водой, и они тонут рядом с судном. Водолазы…
- Спускаются?
- АМ: Браво! Умница!
(В этот момент АМ делает театральную паузу и подбадривает аудиторию жестами, пока кто-то не догадывается, чего же ждет ведущий, и предлагает СВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ:
- Тяжести!
- АМ: «Для подъема тяжести» – круто, здорово!
И возвращается к тексту:
АМ: «Для подъема затонувших…»
- Судов!
АМ: Для подъема затонувших судов используют…
- Краны?
- АМ (смеясь): «…используют понтоны».
И продолжает читать:
АМ: «Большие…»
- надувные подушки!
- АМ: « надувные подушки – здорово, но нет!
АМ: –« Большие металлические…»
- Конструкции?
- « Большие металлические конструкции» – Вы умница, почти!
АМ: «Большие металлические бочки сначала…
- Привязывают?
- АМ: «Привязывают – умница! Почему Вы умница – потому Вы синтаксис улавливаете. Но нет.
АМ: « Большие металлические бочки сначала заполняют водой, и они тонут рядом с судном. Водолазы…
- Спускаются?
- АМ: Браво! Умница!
Опять же подчеркиваю, почему «умница» - это же история не про правильность угадывания. - Вы вытаскиваете слово из себя, Вы уловили игру. Причем, обратите внимание, я заранее эту игру не объяснял, не говорил, чем мы будет заниматься. Я просто начинаю какое-то абсолютно странное чтение, в котором просто делаю дырки, и Вы начинаете принимать условия, и начинаете - очень важно – не бояться давать свои варианты. И в этот момент я страшно Вам радуюсь потому, что мы в сотрудничестве. Ваш вариант «спускаются» я же не могу заранее предсказать, и я ему радуюсь. И мне важно вовсе не чтобы Вы правильно угадали, но чтобы вы перестали бояться пробовать, чтобы вы совершили какое-то количество проб. Мне важно, чтобы пошел этот процесс придумывания вариантов. И тогда в любом вашем слове, не отгаданном, а спродуцированном Вами, Ваши ассоциативные цепи и есть главное.
Водолазы прикрепляют…
- Бочки!
- Браво!!
- К…
- К судну! К днищу!
- Красота!
- …к затонувшему…
- Судну!
- …кораблю.
- Затем воду из бочек вытесняют сжатым воздухом. Сила…
- Сила вытеснения воды! Забыла, как она называется? Выталкивание!
- Сила тяжести, действующая на понтоны, становится значительно меньше…
- Давления воды!
- … выталкивающей силы, и понтоны всплывают, увлекая за собой затонувшее судно!
- Бочки!
- Браво!!
- К…
- К судну! К днищу!
- Красота!
- …к затонувшему…
- Судну!
- …кораблю.
- Затем воду из бочек вытесняют сжатым воздухом. Сила…
- Сила вытеснения воды! Забыла, как она называется? Выталкивание!
- Сила тяжести, действующая на понтоны, становится значительно меньше…
- Давления воды!
- … выталкивающей силы, и понтоны всплывают, увлекая за собой затонувшее судно!
Что сейчас происходило, что было очень важно? То, что вы позволяли себе, не боясь, давать свои какие-то заведомо неправильные варианты. Но тем самым вы примеривались к читаемому тексту, освобождая свою креативную энергию, и, вместе с тем, Через свои креативные варианты открывали то, что на самом деле написано в тексте. А, значит, вступали с этим текстом в диалог. Обычно мы зажаты нашей тревогой сказать что-то неправильное. Потому, что мы знаем, что есть некий правильный вариант. А в той игре, которую предлагаю я, «правильность» как таковая отсупает на задний план. Не она является главным.
В «дырчатом чтении» нет правильных вариантов – и поэтому нет никакой тревоги, наоборот, оказывается ужасно смешно, когда придумываются варианты, которые потом не совпадают с текстом. Тем самым снимается подавляющий нас страх перед текстом. И это происходит в любом возрасте, и со взрослыми, и с детьми. Человек расслабляется. Но при этом он безусловно слышит синтаксис – то, как построено управление в предложении. И это именно то синтаксическое чутье, которое позволяет предугадывать что-то.
В «дырчатом чтении» нет правильных вариантов – и поэтому нет никакой тревоги, наоборот, оказывается ужасно смешно, когда придумываются варианты, которые потом не совпадают с текстом. Тем самым снимается подавляющий нас страх перед текстом. И это происходит в любом возрасте, и со взрослыми, и с детьми. Человек расслабляется. Но при этом он безусловно слышит синтаксис – то, как построено управление в предложении. И это именно то синтаксическое чутье, которое позволяет предугадывать что-то.
В «дырчатом чтении» нет правильных вариантов – и поэтому нет никакой тревоги.
Открытие синтаксиса – это первое великое открытие, которое совершает ребенок, с которым занимаются «дырчатым чтением». Он придумываетслова не абы как, а так, чтобы они вписвались в синтаксическую структуру предложения. А еще при этом происходит активизация воображения. Но самое главное– меняются своими местами две фундаментальные вещи:– работа и удовольствие. Ради чего мы читаем учебник физики? Обычно – подготовиться к уроку, изучить новый материал, и прочее, прочее. А здесь мы его читаем, чтобы получать удовольствие, расслабляться. И при этом, что удивительно, содержание этого физического учебника тоже начинает усваиваться, но через боковое зрение. Собственно учебное содержание усваивается – но как бы побочным образом. Но странным образом устроен человек и его сознание: когда он освобождается от этой зажатости целью, именно в этот момент, у него расслабляется «тонкая мускулатура мозга». И в результате человек начинает улавливать и удерживать этой своей широкой сетью ту информацию, которая до этого вообще была ему недоступна и неинтересна. И, как минимум, он он уже не ненавидит этот учебник. Учебник становится очень веселой, квестовой игрой. И такого рода квестовых игр можно придумывать с любым учебником безмерное количество. Что я постоянно и делаю, вытаскивая детей из их образовательных депрессий.
Этот метод можно применять с ребенком, занимаясь русским языком, математикой, всем, чем угодно – есть, где поэкспериментировать! Очень интересно работать с группой детей. Они увлекаются игрой и очень скоро забывают, что перед ними всего лишь школьный учебник. Учебник превращается в праздник радостной креативной игры.
«Дырчатое чтение» для ребенка особенно ценно потому, что делать «дырку» он может сам и в любом месте по собственной инициативе. А, значит,это чтение, которое оченьлегко идет у самих детей в парах или группах, когда учитель рядом в общем-то и не нужен. Ребенок начинает экспериментировать с текстом, но экспериментируя с текстом, он становится его хозяином. Ведь до сих пор он воспринимал этот текст, как хозяйствующего субъекта по отношению к себе, по отношению к своему сознанию и потребностям…. Кстати, почему дети так любят играть в компьютерные игры? В частности,потому что ребенок там хозяин - он сам решает, куда идти, а куда не идти, что делать, а чего не делать. Он там имеет право личного опыта.
Почему дети так любят играть в компьютерные
игры? Там они имеют право личного опыта.
игры? Там они имеют право личного опыта.
А школа с ее жесткой учебной программой строит себя прямо противоположно. И сколько бы психологи ни твердили про субъектность школьного образования, основной принцип школы субъектно-объектный – «Ты все равно должен это освоить. Ты не являешься хозяином этого текста. Он должен быть хозяином тебя!». Поэтому, когда ребенок приходит в школу, его спрашивают исключительно по поводу того, как он усвоил этот текст, т.е. насколько он сумел себя подчинить этому тексту.
А человек усваивает любое нормативное содержание, только тогда, когда он становится субъектом этого процесса. И это именно то, на что направлены все придумываемые мною образовательные игры, которых на самом деле многие сотни.
А человек усваивает любое нормативное содержание, только тогда, когда он становится субъектом этого процесса. И это именно то, на что направлены все придумываемые мною образовательные игры, которых на самом деле многие сотни.