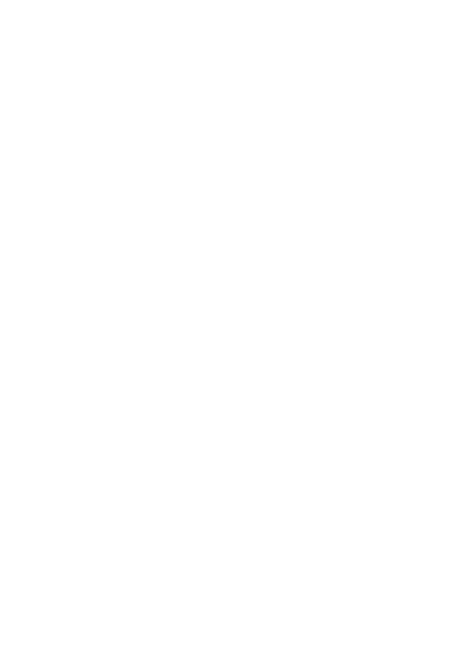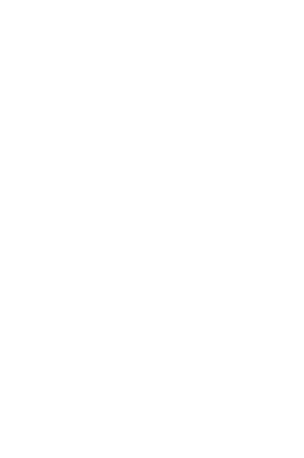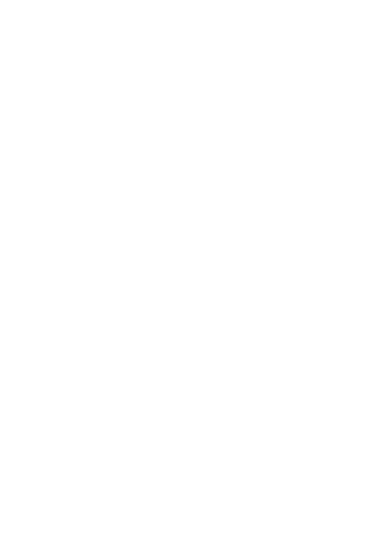Другие файлы cookie можно настроить.
МОРАЛЬНАЯ ТРАВМА И
ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА:
возможности нарративной практики
Вдохновлено афгано-австралийской дружбой
Дэвид Денборо
Перевод Полины Хорошиловой
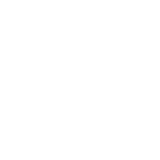
Ключевые слова: моральная травма; ветераны войны; суицид ветеранов; ПТСР; нарративная терапия; психическое здоровье ветеранов.
Невозможно было представить, в каких обстоятельствах я познакомлюсь с этими реалиями. Несколько лет назад в местном крикетном клубе я встретился с доктором Абдуллой Гаффаром Станикзаем. Выяснилось, что помимо мастерского владения техникой кручёной подачи, доктор Станикзай раньше работал в Урузгане с Независимой комиссией по правам человека в Афганистане, где занимался расследованиями нарушений прав человека со стороны движения «Талибан», а также военных сил Афганистана, Австралии и Америки. Дружба с доктором Станикзаем и коллаборации с ветеранами показали мне мою ответственность как австралийца тем или иным образом ответить на страдания, подразумеваемые недавно собранной королевской комиссии, отчёта Бреретона и длительного военного присутствия Австралии в Афганистане.
Я не ветеран войны, не член семьи военного. Я не переводчик, не специалист в области прав человека и не мирный житель, прошедший через войну. Мои предложения скромны. Я постарался опираться на то, что узнал благодаря своей дружбе и взаимодействию с коллегами из Австралии, Афганистана, Руанды, Палестины и Курдистана (Ирак) и вывести на передний план идеи, истории и письменные труды тех, кто обладает инсайдерским знанием о моральной травме, связанной с войной. Большинство этих трудов принадлежит мужчинам-ветеранам, поэтому на следующих страницах центральное место занимает в основном военный опыт мужчин-ветеранов и переводчиков[2]. Я очень рекомендую опубликованные в этом специальном выпуске статьи Adelite Mukamana (2021) и Jaya Luintel (2021), в фокусе внимания которых — опыт переживания женщинами сексуального насилия во время войны и геноцида.
Статья состоит из трёх частей. В части 1 исследуются способы концептуализации моральных страданий ветеранов, вводится понятие моральной травмы, показывается его история и значимость. Часть 2 предлагает способы откликов на страдания людей, столкнувшихся с моральными потрясениями вследствие войны. Нарративные терапевты и специалисты по работе с сообществами разработали инновационные способы ответов на травму, связанную с войной. Эта часть знакомит с использованием нарративных инструментов — включая двойное слушание, признание действий в ответ на проблему, восстановление участия умерших, использование спортивных метафор и ответы людям, которые видят образы или слышат голоса — в помощь тем, на кого повлиял опыт войны. В части 3 идея моральной травмы как личностного опыта распространяется на размышления о коллективных обязательствах и способах реакции на ущерб, причинённый во время войны. В её основе лежит опыт ветеранов и практические инициативы, связывающих исцеление с вовлечением получивших моральную травму людей в действия по вкладу в жизни других.
Часть 1. Понятие моральной травмы, его история и почему это важно
Термин «моральная травма» интересен и сложен. Впервые я познакомился с ним во время визита команды Бреретона в Далвич-центр, Аделаида, куда они пришли услышать свидетельские показания доктора Станикзая. После официальных процедур мы все вышли на свежий воздух, и член исследовательской команды рассказал мне о страдании некоторых осведомителей из вооружённых сил Австралии и той неприязни, с которой они сталкиваются со стороны других представителей военных сил. В этом контексте член исследовательской команды упомянул термин «моральной травмы». Понятие «моральная травма» предлагает нечто другое, чем описание осведомителей как страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), что до недавнего времени преобладало в понимании нарушений психического здоровья ветеранов боевых действий. Антрополог Тина Молендайк (2021a) предлагает следующее определение:
сперва там не было профессиональных участников, они [ветераны] знали, как слушать друг друга с пониманием, рождённым из разделённого опыта (Shatan, 1973, p. 642).
Ветераны пригласили этих психиатров присоединиться к их дискуссионным группам на определённых условиях:
любые попытки наделить нас авторитарной мантией быстро заканчивались, несмотря на их предыдущий военный опыт — а, возможно, и за счёт него. Им сполна хватило иерархических цепочек (Shatan, 1973, pp. 642–643)
Спустя пятьдесят лет взаимодействие между ветеранами и специалистами в сфере психического здоровья значимо отличается от того, каким оно было на первых встречах дискуссионных групп; это можно увидеть в трёх приведённых ниже высказываниях ветеранов:
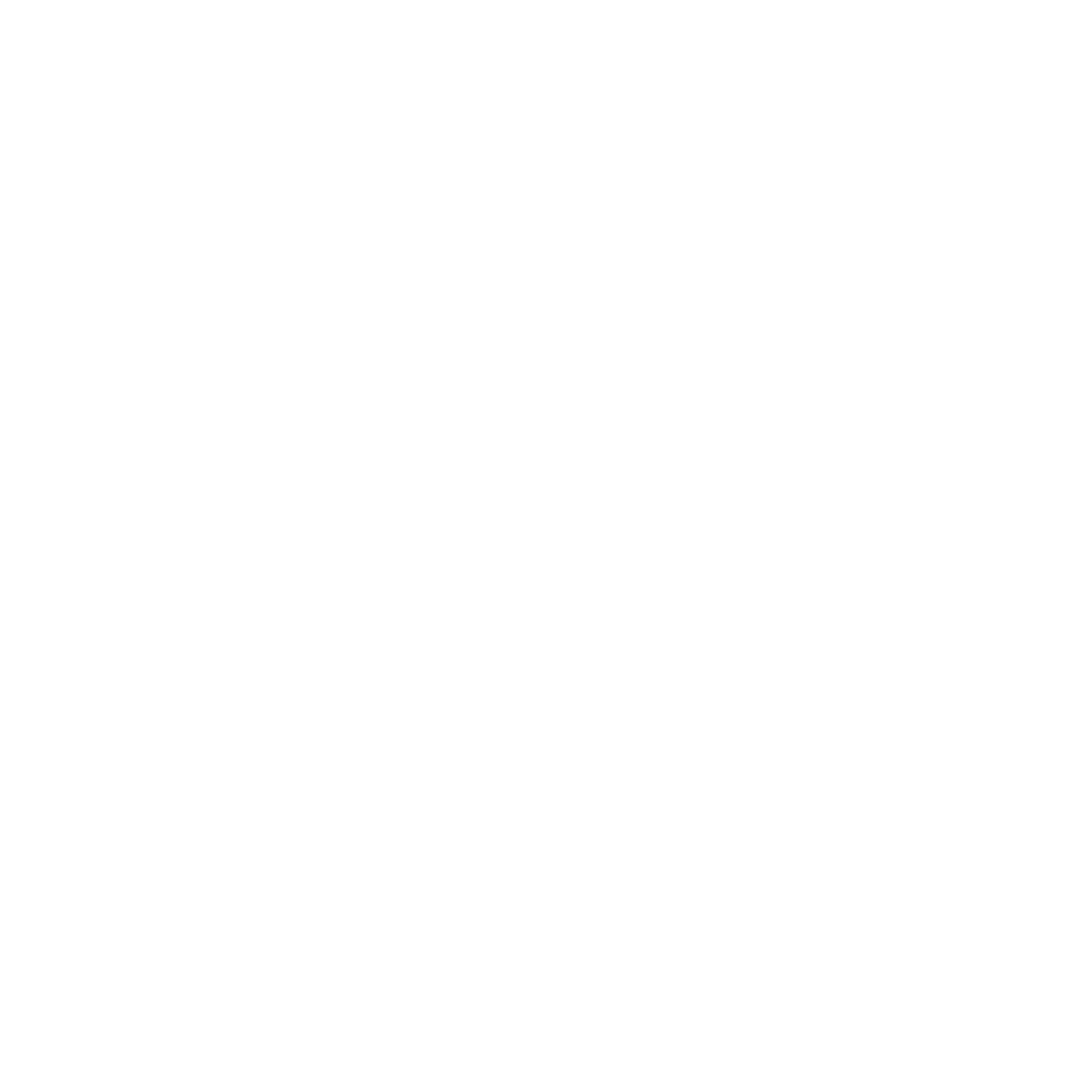
Как ветеран, я не могу представить более досадного сценария, чем оказаться запертым в комнате с человеком, который с каменной беспристрастностью слушает, как я отчаянно сражаюсь с моральными последствиями моих действий во время войны. Я бы предпочёл тогда ничего не говорить (boudreau, 2011, p. 750)
«подушечка для булавок», чтобы учёные и психологи могли тыкать и исследовать тебя для своих докторских и кандидатских исследований ПТСР. Нет, спасибо (Moffitt, 2020a, p. 129)
Также я говорю об этой истории, поскольку в центре внимания первых дискуссионных групп было то, что сейчас известно под названием «моральной травмы».

Бывший моряк тайлер будро[6] красноречиво описывает, чем чревата такая гегемония:
Признание того, что для некоторых людей может значить диагноз ПТСР
Я не хочу преуменьшать значимость того, что для некоторых людей может означать диагноз ПТСР, или помощь, полученную ими благодаря психологическому или психиатрическому лечению. Предоставление психиатрического диагноза может помочь в осмыслении приводящего в ужас смятения, пугающих и изолирующих переживаний, под влиянием которых человек едва узнаёт самого себя или свою реальность. Диагноз или медицинское понимание может также «в моменте» дать мощное чувство облегчения и надежду на «возвращение к норме»[7]. Эта комбинация может обеспечить признание страдания, которое, как описал это Майкл Уайт, любым другим образом в современной культуре получить сложно:
И, хотя я ценю все эти аргументы и мне несложно с уважением отнестись к тому, что люди могут сказать о некоторых положительных влияниях психиатрических диагнозов, я без с сомнений вижу в этих результатах интересные наблюдения о нашей культуре: для того, чтобы люди могли вырваться из плена самообвинения и приписывания им личной неадекватности, стресса, создающегося представлениями о том, что означает быть настоящим человеком в нашей культуре, и от переживания стыда, который мы обсуждали, они должны шагнуть на территорию «болезни». Болезнь — это территория культуры; структурированная, содержащая в себе определённые модели жизни и мышления. Это территория культуры, задающая рамки для жизни. Таким образом, диагноз есть исключение, оправданное болезнью. Но это грустные наблюдения о нашей культуре, и я правда думаю, что мы можем сделать многое, чтобы помочь людям находить в этой культуре альтернативные территории, на которые они смогут успешно уходить от доминирующих способов бытия и мышления, альтернативные территории, вместе с которыми появляются другие способы проживания собственной жизни, способы, не требующие оправдания болезнью (White, 1995, pp. 118–119).
Именно в ответ на ограничения медикализованных и индивидуализированных подходов к ПТСР психиатр (Shay, 1994, 2002), в 90х работавший с ветеранами вьетнамской войны, начал искать способы снова видеть моральные страдания через оптику понятия «моральной травмы», которую он определяет таким образом:
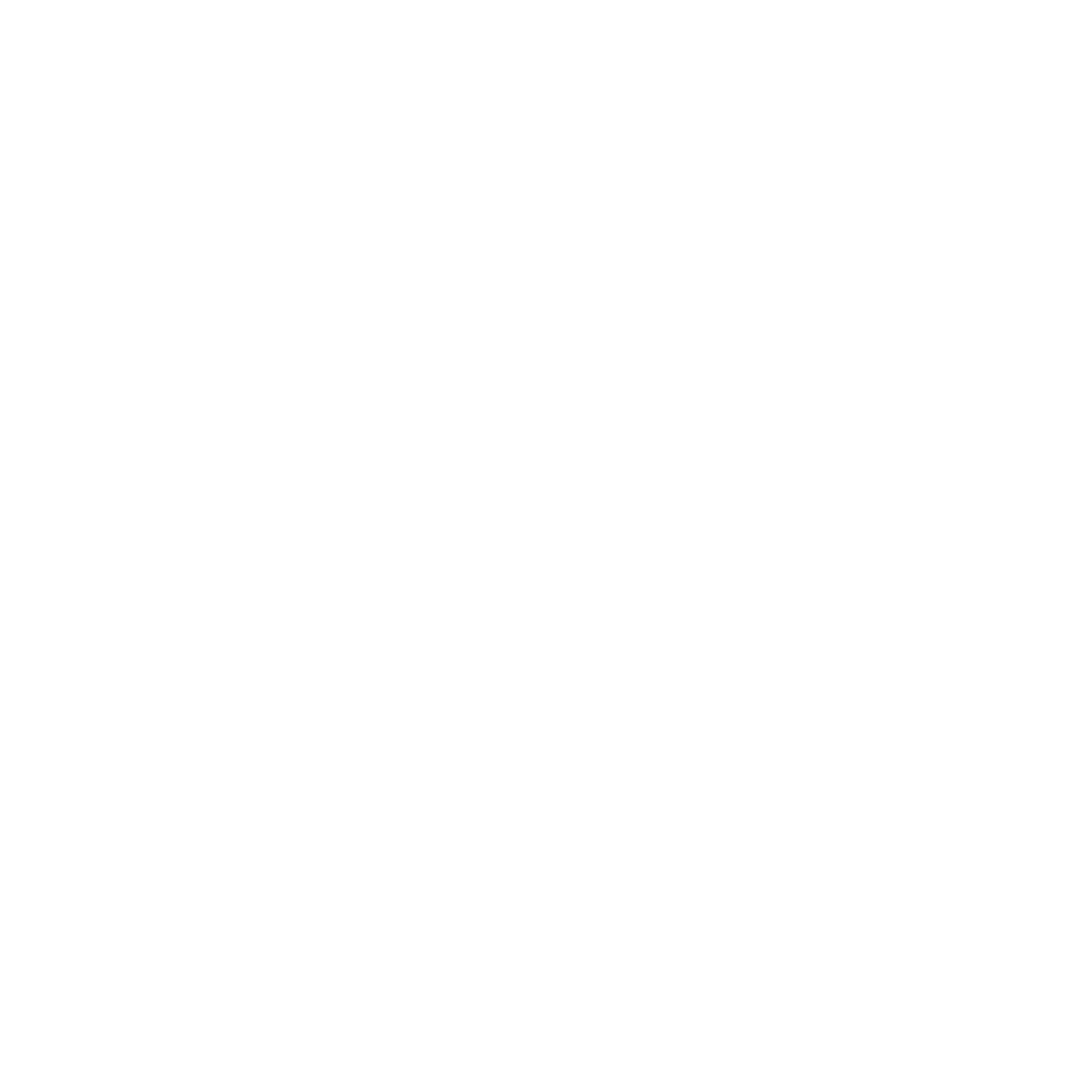
Психолог Брет Лиц с коллегами доработали определение Шэя и предложили взгляд на моральную травму как на:

Нажмите, чтобы увеличить
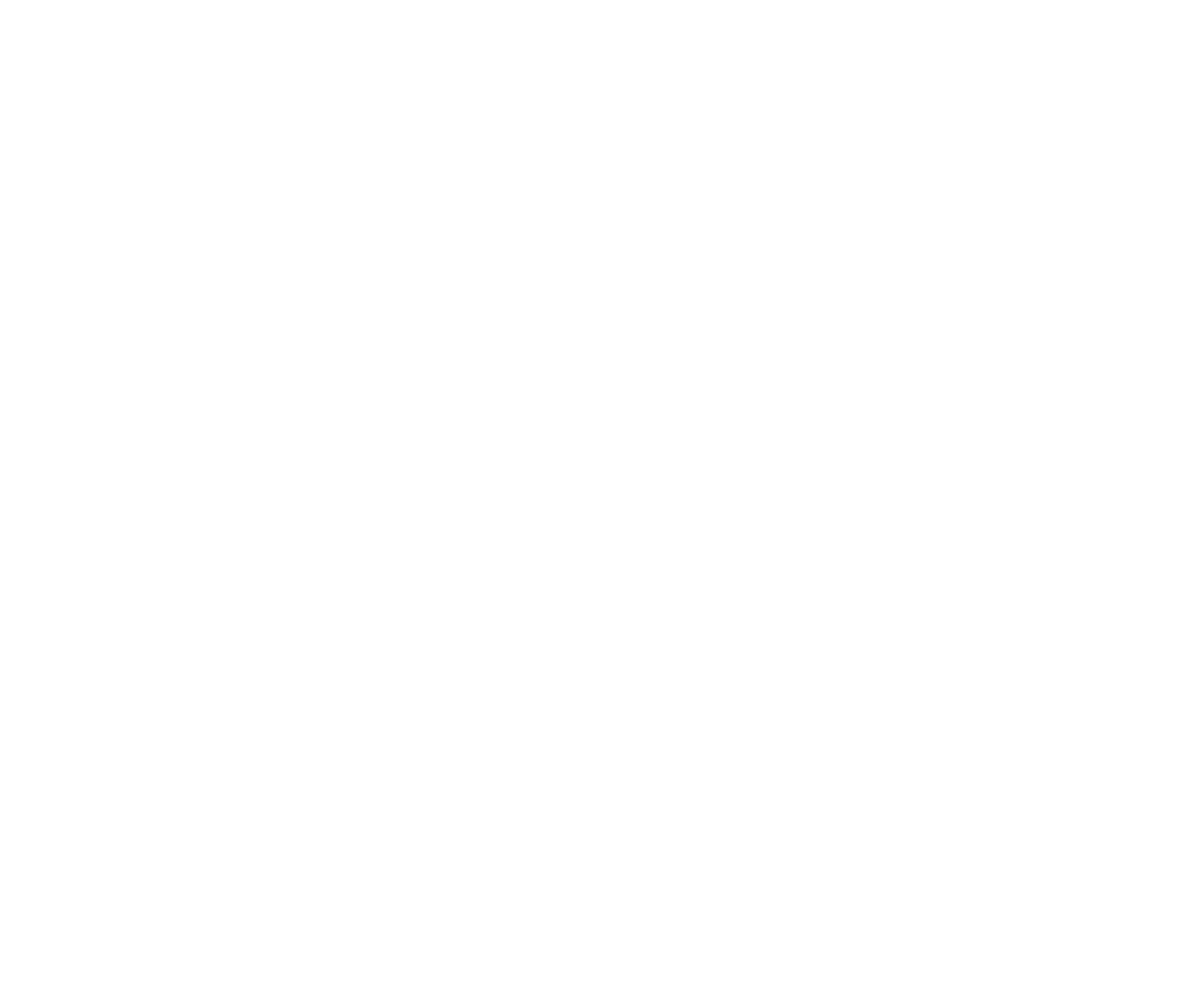
Социальные проекты
Медикализация дистресса военных влияла не только в индивидуальном смысле, но имела и более широкие последствия. Как объяснял тайлер будро:
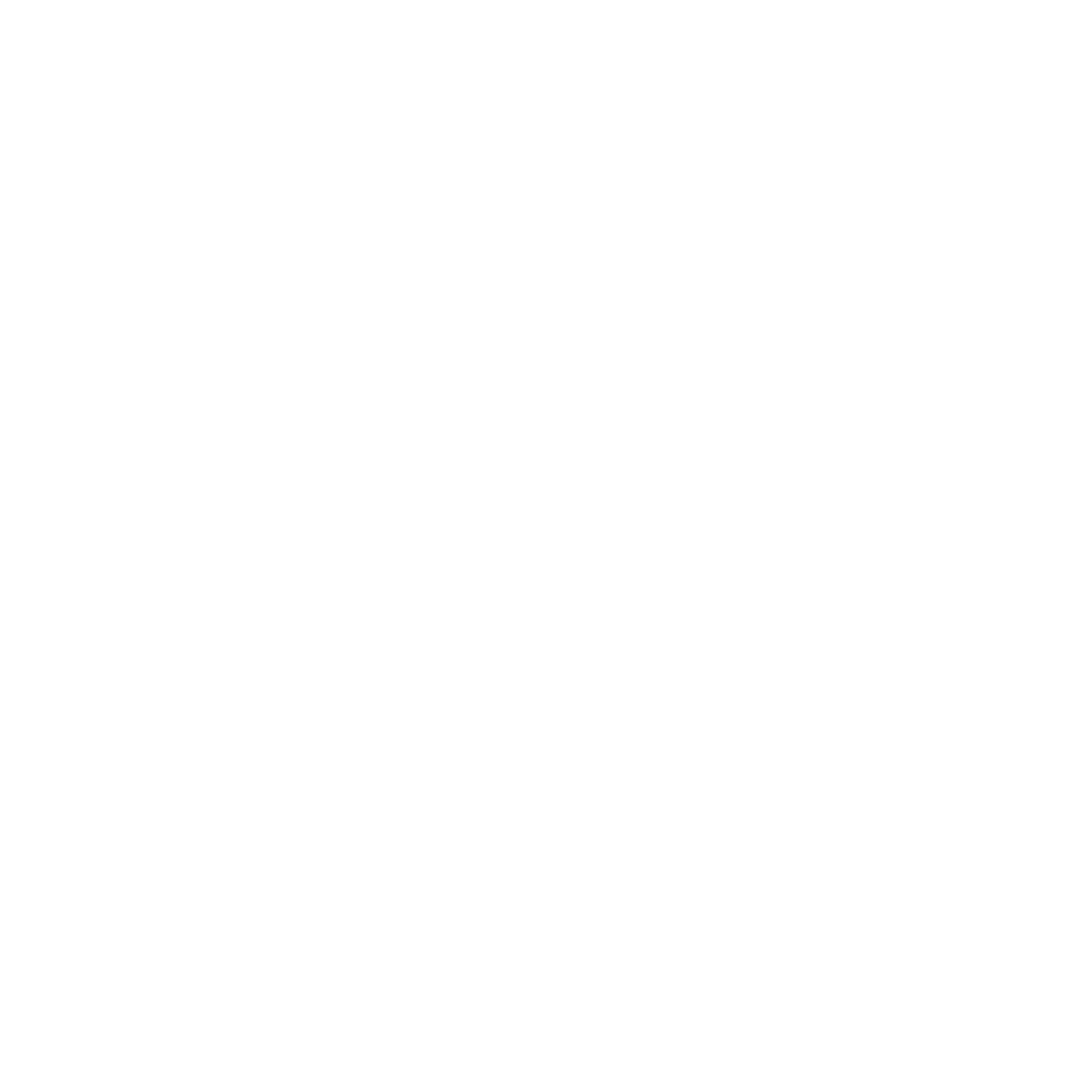
Часть 2. Нарративная метафора и восстановление идентичности
Нарративные терапевты и люди, работающие с сообществами, избегают авторитарной экспертности, существенно влияющей на основные психологические сообщества. Мы отходим от «диагноза» (размещение опыта всех людей в обобщённых категориях) и ценим солидарность:
Идентичности как история
Бывший моряк тайлер будро описывал, как однажды ему удалось посмотреть на себя в следующих терминах:
Тайлер будро также писал, что мы являемся «историками собственных идентичностей» (2019, p. 51). На какие истории мы обращаем внимание, какие события мы размещаем в своём сознании, какими смыслами их наделяем — всё это задаётся доминирующим нарративом нашей идентичности.
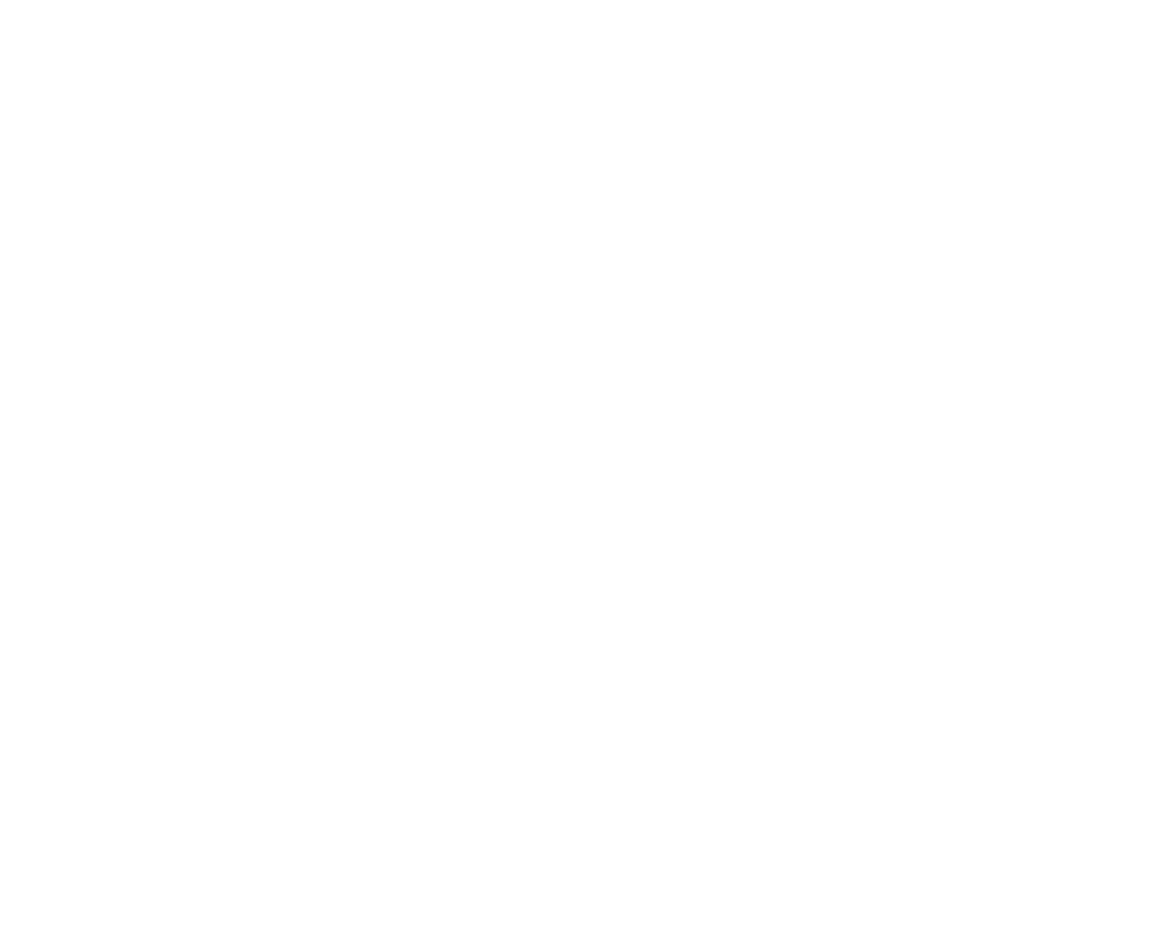
Но для будро, после возвращения со службы в Ираке, участия в войне, которую он начал считать несправедливой, «заголовок» доминирующей истории его идентичности поменялся:
В нарративной практике происходит «пересочинение» этих историй идентичности. Это процесс взаимодействия. Терапевт / сообщество специалистов действуют как соавторы.
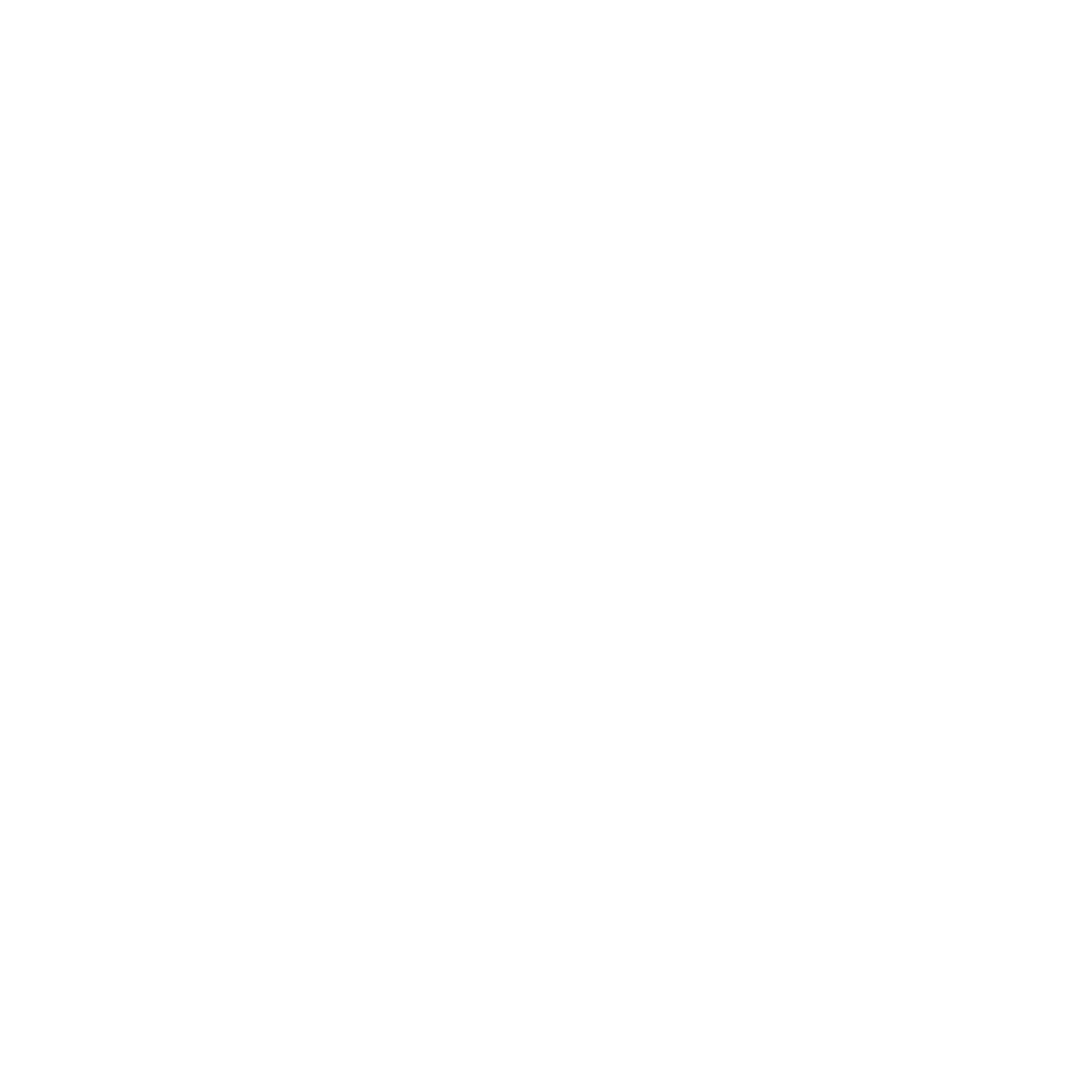
Человек — не проблема: экстернализующие беседы
Одним из ключевых принципов нарративной практики является «человек не проблема, проблема — это проблема» (см. White, 2007a). Мы ищем, какое экстернализованное имя может дать проблеме человек[13]. Это может быть «Безнадёжность» или «Отчаяние», «Страдание» или «Комментатор», как у командира бывшего подразделения особой воздушной службы (SAS) Гарри Моффита[14]:
- Когда Безнадёжность и Комментатор впервые пришли в твою жизнь?
- Как он пришёл в твою жизнь или твою семью?
- Какое влияние Безнадёжность оказывает на твою повседневную жизнь? На твои отношения с семьёй и друзьями? На твои надежды и мечты?
- В какие периоды Безнадёжность особенно сильна?
- Какие стратегии использует Безнадёжность? Что заставляет тебя думать?
- Что усиливает итенсивность Безнадёжности?
- До какой степени Безнадёжность влияет на твои отношения с другими?
- До какой степени Безнадёжность влияет на твои надежды?
- Что ты думаешь о последствиях этой проблемы в твоей жизни — они хорошие, не очень или и то, и другое?
Затем мы можем начать искать способы влияния самого человека на проблему. Для этого необходимо двойное слушание; мы слушаем не только проблемную историю, но также точки входа в предпочитаемую:
- Ты говорил мне о временах, когда Безнадёжность сильнее всего. Когда она менее всего сильна?
- Что ты/другие делаете в это время?
- Как ты держишь Безнадёжность в узде в такие периоды?
- Какие навыки используешь ты или другие люди?
Со временем мы начинаем строить или восстанавливать насыщенную / живую / сильную предпочитаемую историю идентичности, так что она становится более влиятельной в жизни человека. В нарративной практике есть множество способов это сделать. Мы обнаруживаем навыки людей в их взаимодействии со сложностями и можем проследить историю этих навыков:
- Ты говоришь, что остаться в живых тебе помогала «решимость». Можешь рассказать пример проявления этой решимости, эпизод, когда бы ты опирался на неё?
- Можешь рассказать историю этой решимости? Когда ты впервые осознал решимость? Когда она пришла в твою жизнь?
- Эта решимость каким-то образом связана с тобой, твоей семьёй, сообществом, твоей верой или культурой? Есть ли поговорки, пословицы, истории, песни, образы, с которыми эта решимость связана?
- От кого ты научился этой решимости, про которую говоришь, что опора на неё помогает не давать волю Безнадёжности?
- Их сейчас нет в живых, но как ты думаешь, что бы они сказали, если бы могли видеть, как сейчас ты используешь эту решимость, которой они тебя научили? Что бы они думали о том, что ты таким способом продолжаешь их наследие?
Значимость двойного слушания и признания действий в ответ на травму
Нарративные практики убеждены, что «двойное слушание» и создание предпочитаемой истории идентичности важно для всех людей, но конкретный исторический пример показывает, насколько это значимо при работе с людьми, на которых повлияла война. Историк Бен Шепард (2002) обратил внимание на связь первых усилий по признанию долгосрочных последствий травмы с поиском справедливости и компенсаций жертвам Холокоста. В 1950х, когда люди впервые начали настаивать на компенсации от Германии, множество немецких «экспертов»
Стыд
Некоторые из наиболее наглядных встреченных мною описаний «моральной травмы» принадлежат ветеранам, рассказывающим о стыде. Ветеран войны в Ираке и служитель первой христианской церкви Майкл Янделл описывает:
Я стоял там, исполненный гордости и исполненный стыда. Стыда, потому что я знал, как много непривлекательных деталей оказываются невысказанными, когда рассказывается история победы через принесение жертвы. Стыда, потому что мне была дана возможность восстановиться ради хорошей жизни, тогда как у других не стало никакой. Стыда, потому что я знал о существовании другой истории — или, по крайней мере, более полной истории, которую боялся рассказать. И ещё большего стыда, потому что знал: в этом месте от меня ждут только чувство гордости и благодарности. Это худшая разновидность стыда — стыд за переживание стыда (Yandell, 2019, p. 12).
Создание пространства для стыда через экстернализацию
В некоторых обстоятельствах стыд может быть экстернализован. Рассказывая о групповой работе с мужчинами, совершившими насилие над своими партнёрами-женщинами, Кайли Доуз описывала, как стыд не давал им честно говорить о насилии, жестокости и причинённом ими ущербе. В свою очередь, способы, какими они минимизировали, скрывали или искажали свою жестокость, могли способствовать причинению дальнейшего вреда женщинам, внушать им ощущение, что они сошли с ума.
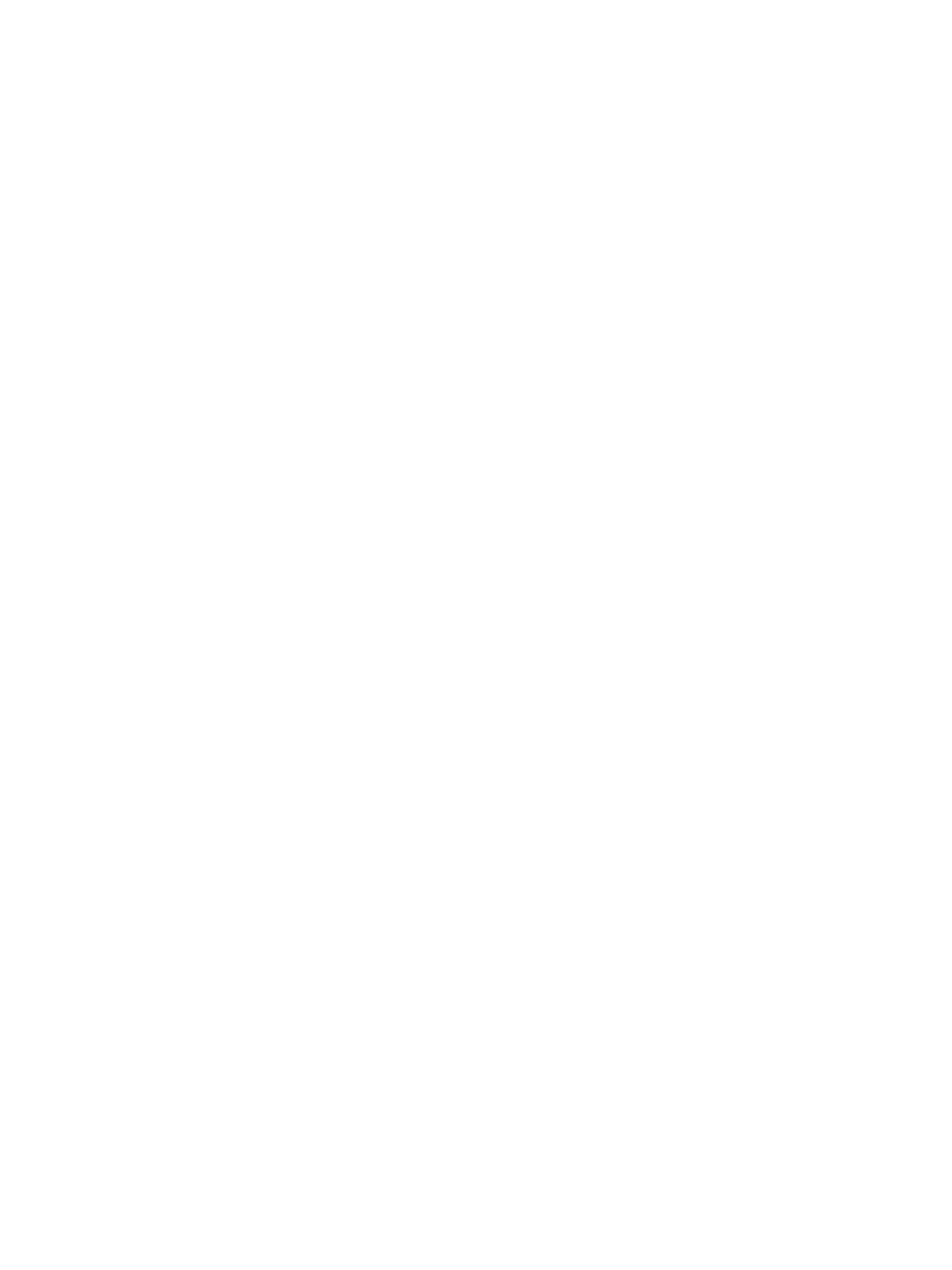
Признание отсутствующего, но подразумеваемого — в ответ на моральный дистресс
Иногда погружённость людей в стыд и другие формы морального дистресса достигает такой степени, что экстернализации стыда недостаточно; в дополнение к этому нарративные практики ищут способы сделать видимым «отсутствующее, но подразумеваемое» в таких страданиях.
Давайте посмотрим на описание двойного стыда от Гарри Моффита — стыда за чувство стыда:
Если бы их описания стыда за чувство стыда слушал нарративный практик, он мог бы задать такие вопросы[15]:
- Стыд за чувство стыда...как будто я слышу в этом какие-то ценности, за которые ты держишься и которые так значимы для тебя, но против которых тебе пришлось пойти...правда ли это?
- Я бы хотел спросить о том, что это за ценности и о происхождении этих ценностей в твоей жизни. Ок ли тебе с этим?
- Кажется, я чувствую, что ты имеешь в виду — что ты делал и говорил вещи, вступающие в противоречие с твоими убеждениями или чем-то ещё, не соответствовавшие тому, как бы в идеале тебе хотелось жить свою жизнь. Так ли это?
- С какими противоречиями ты сталкиваешься?
- Является ли это несправедливостью по отношению к тому, на стороне чего ты бы выступил в других обстоятельствах?
Дистресс как верность
Далее для концептуализации моральных страданий (и отсутствующего, но подразумеваемого) необходимо рассмотреть, что моральный дистресс представляет собой в терминах того, чему человек остаётся верным, преданным:
Для тех, кто столкнулся с моральными страданиями, верность означает готовность пересматривать свои страдания, потери, скомпрометированную влиятельность, пусть даже при восстановлении прошлого мы можем содрогнуться от воспоминаний и переживания горя...Военные мемуары, военные мемориалы, преданность личной и общественной истории, всё это — отличительные черты верности...Верность проявляется в том, чтобы оставаться с историями наших жизней, несмотря на часто влиятельное желание диссоциироваться, а то и забыть болезненные воспоминания (Wilson, 2014, p. 68)
- вслушивались в разделённые ценности, выходящие за рамки «Я» идеалы, подразумевающиеся в выражаемых выжившими страданиями
- замечали и признавали способы, которыми выжившие продолжали воплощать эти идеалы
- делали возможным для выживших называть эти разделённые идеалы
- просили выживших рассказывать о социальных историях этих идеалов, откуда они пришли, с кем были разделены
- создавали контексты, в которых выжившие могли сделать вклад в продолжение этих разделённых идеалов (Denborough, 2010, p. 30).
Когда мы находим способы признания нарушенных, но сохранившихся ценностей, и видим в дистрессе признак преданности этим ценностям, это создаёт возможность для поиска действий в ответ на стыд и вину, не ограничивающихся «прощением».
Не ограничиваясь прощением
В большинстве литературы о моральной травме возможности исцеления находятся в окружении идеи о прощении. Довольно объяснимо, если учесть, что львиная доля этой литературы появилась в контексте христианства, с почитанием относящегося к идее прощения[16].
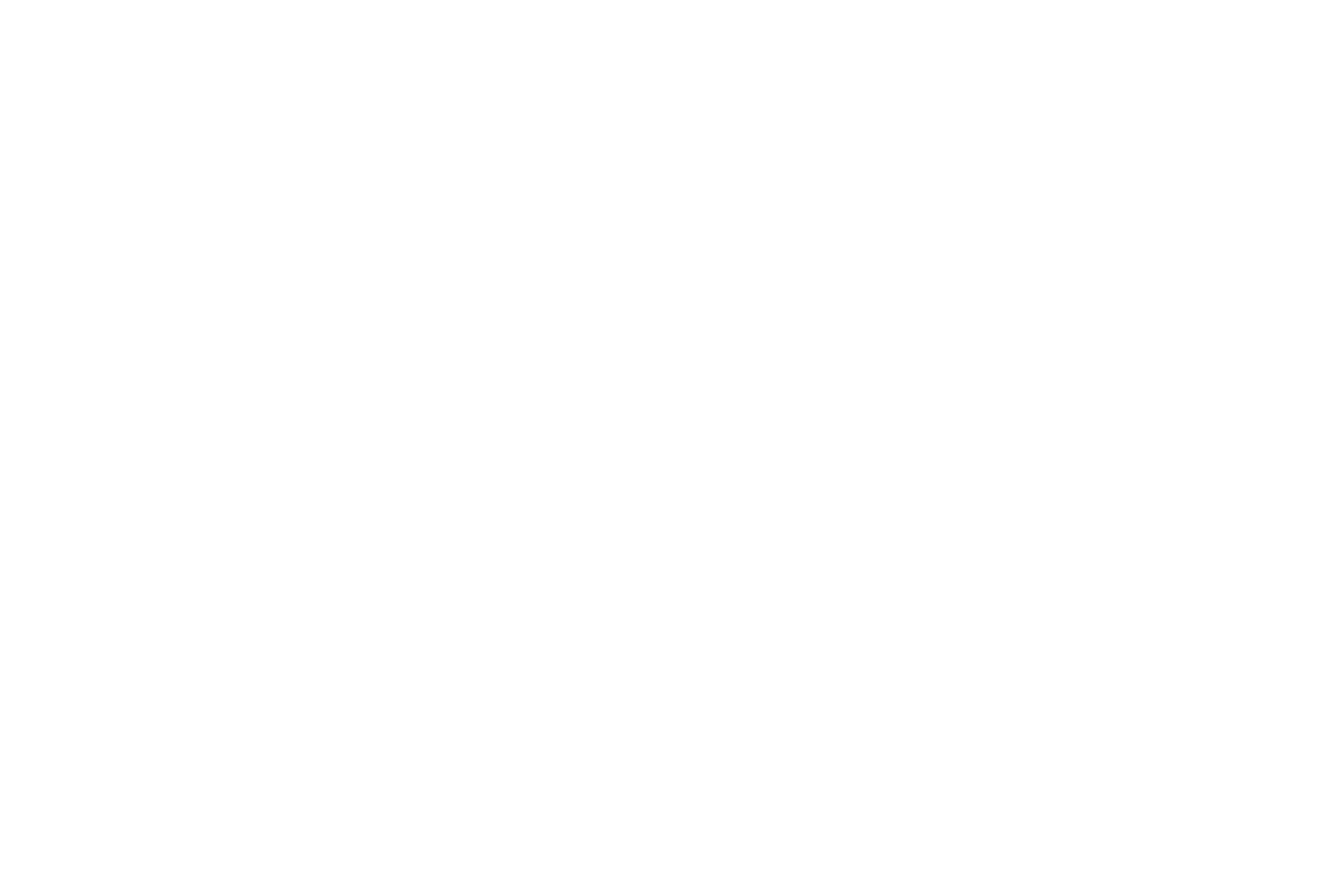
— С моим тылом покончено, — сказал я.
— Как Шон? — Ответил Морской волк.
— С ним покончено. Он умер.
За прошедшие двенадцать лет я тысячи раз снова и снова оглядывался на обстоятельства того утра и моё участие в них. Благодаря большому количеству разговоров, терапии и смирения, других элементов моего процесса исцеления, я смог простить себя за все свои действия, кроме этого. Я глубоко сожалею о словах, сказанных, когда в нескольких метрах от меня члены моего подразделения ещё были рядом с ним — сами не веря в смысл, они шли за вопросом «что ещё они могут сделать»? Они бы сделали это и для меня, и для кого угодно другого. Я видел, как благодаря искусственному дыханию Шон на несколько секунд пришёл в сознание. Он приподнялся и, ухватившись за склонившегося над ним парня, издал полубессознательный крик, прежде чем снова упасть. Меня вечно будет преследовать мысль о том, что Шон был достаточно в сознании, чтобы услышать мои слова, как я уже попрощался с ним. Не думаю, что я смогу себя за это простить (Moffitt, 2020a, p. 220)
Более того, Гарри Моффит выбрал написать об этом, сделать публичным то, за что он не мог себя простить. Я вижу в этом проявление морального мужества. Если солдаты оказываются в контекстах, практически неизбежно вынуждающих их делать или говорить то, о чём они впоследствии пожалеют, то как мы можем создать контекст, в котором окажется возможным озвучить «то, что простить нельзя», сделать это видимым, вывести это на свет?
Желание Гарри Моффита озвучить то, за что он не может себя простить, показывает путь, выходящий за рамки прощения. Это путь, на котором люди могут разделить друг с другом груз не прощаемого, а затем объединиться ради участия в жизнях живущих.
Снова сказать здравствуй тем, кто умер
К сожалению, те, кто прошёл через войну — ветераны, переводчики или мирные жители — обычно знали и любили тех, кто во время войны был убит. Кажется важным обсуждать способы, какими нарративные терапевты и специалисты по работе с сообществами отвечают на горевание людей. В 1980х годах нарративный терапевт Майкл Уайт (1988) предложил концепцию «снова сказать здравствуй» нашим умершим для того, чтобы преобразовать опыт горевания. С её помощью мы также можем увидеть свои способы поддержания жизни наследия, оставленного нам теми, кого мы любили.
Поначалу предложенная в 1980х годах идея «снова сказать здравствуй» умершему казалась странной. В западной культуре в то время доминирующей метафорой горя было «сказать прощай». Нас часто приглашали к прохождению пошагового процесса прощания с целью затем двинуться дальше и принять реальность, которая не включает в себя наших любимых. Однако в своей работе терапевтом Майкл Уайт обнаружил, что некоторым людям очень сложно сказать прощай умершим, а также что в некоторых обстоятельствах очень важно снова сказать здравствуй. Эта идея нашла поддержку в работе антрополога Барбары Майерхофф:
Значит, если бы она могла присутствовать и слушать наш разговор, если бы она могла быть здесь — и в каком-то смысле она здесь, ведь вы оживили её для меня — если бы она находилась с нами, что бы она сказала об этом?
Вы чувствуете её гордость за вас. Что приносит в вашу жизнь чувство её гордости за вас как родителей, её гордости за ваши шаги, предпринятые в поисках ориентиров после трагедии? Что происходит с вами благодаря переживанию этого чувства её гордости за вас? Как оно на вас влияет?
Значит, вы нашли способ создания пространства для того, чтобы её голос был с вами в вашей жизни. Вы нашли способ быть уверенными, что у неё есть место, что она может присутствовать в вашей жизни сейчас, когда её жизнь продолжается через вас.
Позвольте предложить другой пример того, что сейчас известно как «беседы по восстановлению участия» (White, 2007b). Сахар Мохаммед, нарративный терапевт в Палестине, проводила беседы по восстановлению участия с Гадир Назааль (псевдоним), девушкой 23 лет, жившей рядом с городом Дженин. Когда Гадир было 17 лет, она пережила шок от смерти матери, много лет страдавшей от рака печени. Два года спустя израильские войска убили её 21-летнего брата Махмуда. Когда Гадир впервые пришла на консультацию с Сарой, ей был 21 год и она чувствовала, что «в мире нет ничего, ради чего стоило бы жить».
Здесь я приведу выдержку из их разговоров, относившихся к «снова сказать здравствуй» или «беседам по восстановлению участия». Я включил в эту выдержку все вопросы Сары, чтобы передать ощущение заботы и настойчивости от нарративного терапевта. Однако я включил не все ответы Гадир[17].
Мой брат Махмуд.
Какой вклад Махмуд сделал в твою жизнь?...Можешь ли ты рассказать о чём-то, что вошло в твою жизнь благодаря Махмуду? ...Что было для тебя особенно значимым в нём?
Он был старшим среди нас, поэтому, когда умерла мама, мы сблизились. Он восполнил мамину нежность. Мы дали друг другу материнскую нежность. Он также хорошо себя вёл и мне нравилось походить на него.
Как на твою жизнь повлиял Махмуд?
При жизни он поверял мне множество вещей, и от этого я чувствовала себя уверенной и значимой, я была очень счастлива. После его утраты я чувствовала раздражение, что ситуация изменилась: Боль и Отчуждение захватили мою жизнь[18]. Но мне нравится, как Махмуд жил свою жизнь.
Как ты думаешь, что Махмуд ценил в тебе как в сестре?
После смерти мамы я взяла на себя ответственность и стала матерью в нашем доме. Я заботилась о нём и обеспечивала безопасность.
Было ли что-то, что видел в тебе Махмуд, а другие не могли это увидеть?
Махмуд знал, что во мне есть мужество. У меня хватало мужества справляться со сложными ситуациями, через которые мы проходили. Я действительно доказала, что могу справиться, особенно когда они задержали двух моих братьев и я без страха оставалась дома. Благодаря Богу я прошла через всё это.
Как ты думаешь, что Махмуд ценил в тебе...что делало тебя ценной частью его жизни?
Мою способность действовать в сложных ситуациях.
Были ли конкретные вещи, особые времена, когда вы с Махмудом были значимы друг для друга?
Во время болезни мамы мы восполняли её нежность. Мы вместе отвозили её в больницу. После её смерти мы учились вместе…
Если бы ты могла увидеть себя глазами Махмуда, как бы ты ответила, что он ценил в тебе сильнее всего?
Что каждый из нас взял на себя ответственность в ситуациях, выходящих за пределы наших возможностей. Помню, как он просил меня позаботиться о сиблингах.
И как бы он оценил то, что теперь ты заботишься о своих сёстрах, что ты стараешься изменить обстановку вокруг них, что ты стараешься преодолеть «боль и отчуждение»?
Думаю, он бы гордился.
Если поразмыслить, как менялась жизнь Махмуда благодаря твоему присутствию в ней? Была ли ты чуткой к нему?
Да, я была чуткой. Я делала то, что ему нравилось; например, я пригласила его друзей на Рамадан. И вместе мы преодолели потерю мамы. Мама была для него всем. Она была необычным человеком. Она была очень доброй как дома, так и вне его стен. И поскольку я старшая сестра Махмуда, то заняла мамино место, когда она умерла. Я делала всё, что могла, чтобы скомпенсировать её финансовую, психологическую и эмоциональную поддержку. Я заботилась и обучала своих младших сиблингов, следила за тем, чтобы они ни в чём не нуждались, я занималась домашней работой, заботилась о саде и давала частные уроки, чтобы накопить денег.
Что благодаря всем этим действиями становилось возможным для Махмуда?
Для него это сделало возможным чувствовать безопасность и продолжать свою работу и жизнь. Когда человек находит, кому довериться, у него появляется возможность лучше справляться со своими обязанностями.
И Махмуд мог мне доверять. Я могу сказать, что мы дополняли друг друга. Когда он был с нами, то для женской части наших сиблингов он делал то, чего не могла я. А я делала то, чего не мог он.
Думаешь ли ты, что личность Махмуда как-то менялась благодаря его отношениям с тобой?
Возможно, он становился более спокойным и принимающим.
Меняется ли что-то, когда ты таким образом думаешь о Махмуде?
[Потеря] моего брата Махмуда — одно из сложнейших переживаний в моей жизни. В начале я чувствовала полную растерянность, потому что полагалась на него, а он ушёл навсегда. Но поразмышляв о том, на что Махмуд надеялся в своей жизни, чего он хотел, чем мы стали вместе, я почувствовала движущую силу памяти о нём. Словно это подталкивает меня вперёд. Делает сильнее.
Как думаешь, что станет возможным в будущем, если ты будешь сохранять память об отношениях с братом?
Мне кажется, я прошла через самые большие сложности в моей жизни...[потеря] Махмуда..теперь я продолжу исполнять его мечту, завершая своё обучение в университете и продолжая заботиться о сиблингах.
Ты бы хотела добавить что-то, перед тем, как мы закончим?
Что нас не убивает, делает нас сильнее и мужественнее.
Разговоры по восстановлению участия не приглашают людей «забыть», «принять» или «двигаться дальше». Вместо этого они стремятся сделать так, чтобы память о потерянных любимых стала, как описала это Гадир, «движущей силой».
Прежде чем я обращусь к коллективным ответам на горе и моральную травму, я бы хотел поговорить об опыте тех, кто видит образы и/или слышит голоса умерших.
Видеть образы и слышать голоса
Слышать голоса умерших или видеть их образы — достаточно распространённый опыт в мировой культуре; но всё равно в западной психологии он регулярно патологизируется и ассоциируется с психическими заболеваниями (в частности, с диагнозом шизофрении). В качестве такового это может повлечь за собой растерянность, стигму и молчание.
Переживания голосов и образов, связанных с травматическим опытом (будь то межличностное насилие или контекст наподобие военного) могут сильно мешать. Не так редко столкнувшиеся с войной люди — как военные ветераны, так и переводчики или мирные жители — слышат голоса и видят образы. Гарри Моффит ярко описывает свой опыт:
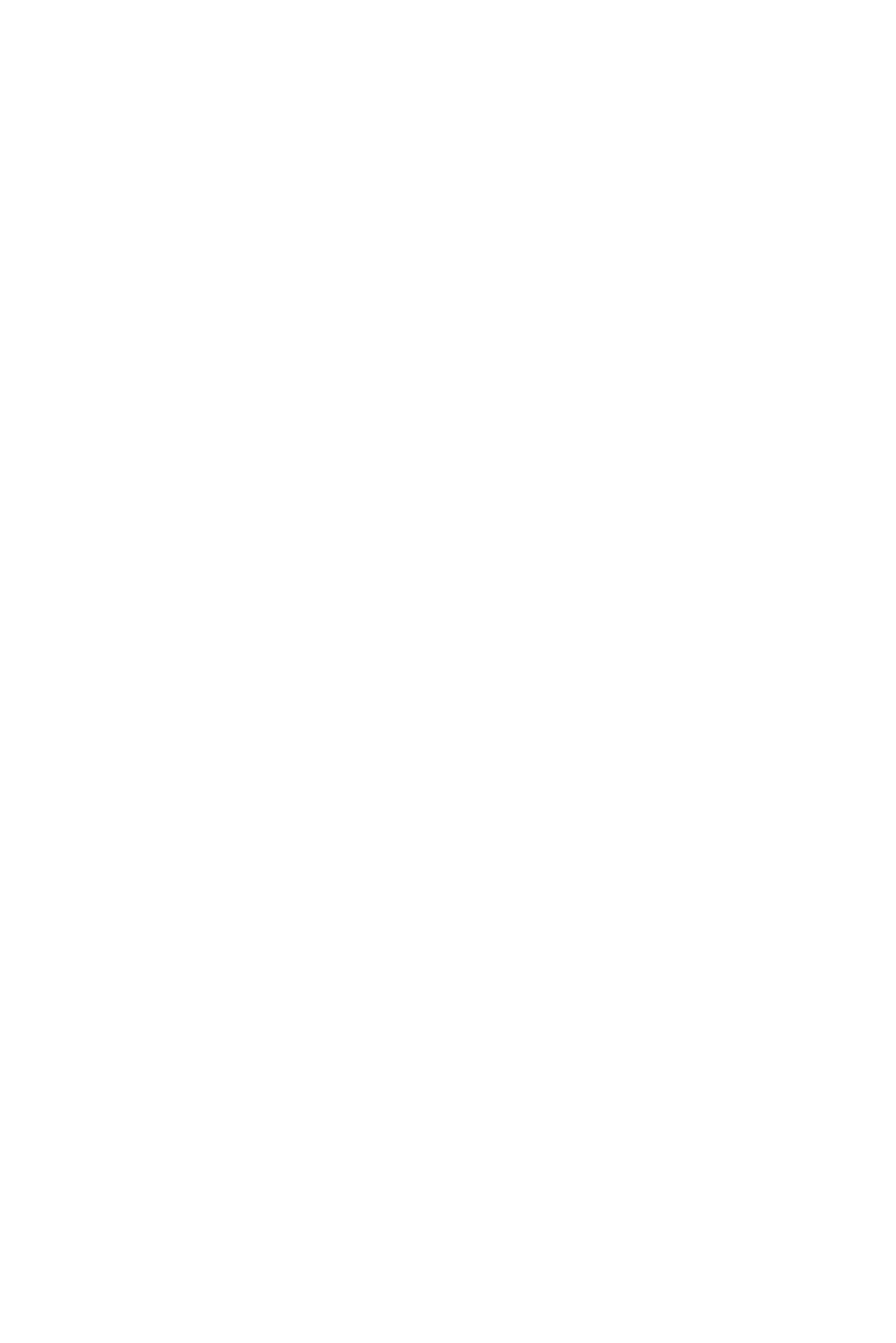
Опираясь на свой опыт работы с людьми, слышащими голоса и видящими образы,
Так было и для Гарри Моффита, который с помощью психолога исследовал, почему мог приходить к нему мальчик, а со временем смог вовлечь этого мальчика в воображаемые диалоги:
Часть 3. Коллективные ответы на моральные травмы.
В последней части статьи я хочу исследовать коллективные ответы на моральные травмы.
«Что твоё — то наше»
Привычные ответы на ПТСР (и некоторые клинические ответы на моральные травмы) размещают и «травму», и «исцеление» внутри человека. К сожалению, чем глубже чьи-то страдания, тем с большей вероятностью профессиональный ответ будет индивидуализирован, и это представляет собой серьёзное ограничение и проблему — что даже больше верно для тех, чьи «травмы» появились в контексте коллективных тягот.
Мантра коллективной нарративной практики состоит в следующем:
Я был сильно тронут, когда прочитал эти слова Гарри Моффита, в которых он описывает коллективное переживание получения и чтения писем во время военной службы:
Затем наступала тишина, мы приступали к письмам. Я помню, как смотрел на команду и видел, что все одновременно читают. Письма от семьи — матерей, отцов, сестёр, братьев, детей, двоюродных братьев и сестёр, даже тёть...Я замечал украдкой намокшие глаза, ностальгическое оцепенение, сентиментальную тоску. Это были одни из самых сильных эпизодов в моей жизни (Moffitt, 2020a, pp. 47–48).

Создавая собрания слушателей историй войны
Когда ветераны возвращаются к мирной жизни, может быть очень сложно найти пространства «communitas», похожие на те, что описаны выше:
Найти слова для подобного сбивающего с ног опыта и почувствовать контакт с людьми, которые его не переживали, сложно само по себе. Если общество в ответ готово предложить только чёрно-белые истории героев, жертв и преступников, это лишь увеличивает сложность (Molendijk, 2021b, p. 164).
В пространстве нарративной терапии и работы с сообществами было много размышлений в связи со значимостью свидетельских практик (White, 1999, 2004, 2007b). Они включают в себя такие отклики на показания или истории других, которые бы демонстрировали признание вместо патологизации, покровительственного отношения или восхваления.
Внешние свидетели осуществляют «двойное слушание» рассказанных историй и затем определённым образом откликаются. Позвольте мне предложить пример свидетельского отклика на показания, прозвучавшие для созданного в 2017 комитета Сената по расследованию самоубийств ветеранов и бывших военнослужащих. Сперва само показание:
За время службы я столкнулась со множеством травматических эпизодов...Насилие власти, сексуальное насилие и институциональная неспособность ответить на любые обращения по поводу этих действий.
Неписанным обрядом инициации в одной бригаде, куда меня направили, была демонстрация насилия над любовницей — талисманом бригады. Мне постоянно напоминали, что я не приняла в этом участия и не стану «настоящей» частью команды, пока этого не сделаю. Ужасало смотреть, как мои коллеги разыгрывают этот ритуал и поддерживают друг друга; это был ещё один способ чествования мизогинии и сексуального насилия, поощрявшийся всю мою карьеру. Мужчины, на которых я работала, хвастались тем, как они насиловали сексуальных работниц в закоулках иностранных портов, и подталкивали молодых членов команды никогда не платить сексуальным работницам, обучая их способам избежать поимки сутенёрами и полицией.
Вся культура была хищнической, и каждый новый кадр воспринимался как «свежее мясо». Я нашла убежище от агрессивных хищнически настроенных мужчин в отношениях с другим стажёром. Это было против правил, и это даже не было безопасно, потому что он знал о своей власти и использовал это для психологического и физического насилия надо мной. Но лучше было быть изнасилованной своим парнем, чем стать мишенью для сотен других.
Правительство забрало меня в мои 18 и не справилось с обеспечением безопасности. Я получила травму на работе, со мной ужасно обращались и заставляли молчать об этом десять лет. Когда всё это всплыло на поверхность, на меня повесили ярлык симулянтки и предательницы. И что хуже всего: теперь я несу стыд за всё, что происходило. Навсегда. Я уволена по медицинским показаниям; не подхожу для службы, моряк на пенсии в свои тридцать. Даже когда я пишу это признание, я слышу внутренний голос, говорящий мне, что я просто слаба и не должна делиться этим, потому что всё, что я получу в ответ — осуждение.
Единственная причина, почему я продолжаю претендовать на компенсацию, это принцип. Я хочу убедиться, что записи отражают настоящую цену службы для сил обороны.
Я бы хотела также напомнить людям, читающим эти показания, что широко известно влияние чтения и выслушивания огромного количества расстраивающего материала («травма свидетеля»), так что, пожалуйста, заботьтесь и о своём ментальном здоровье тоже. Мы нуждаемся в том, чтобы и вы были в хорошем и благополучном состоянии (Name Withheld, 2017).
- какой конкретно аспект того, как Эми отвечала на свою историю, особенно обратил на себя ваше внимание?
- Какой аспект наиболее захватил ваше воображение, зажёг ваш интерес или пробудил ваше любопытство?
- Был ли конкретный навык или действие Эми, задевшее вас за живое?
Побудила ли вас история Эми подумать о чём-то, сделать что-то в вашей жизни? Я говорю не просто о том, что она вас как-то эмоционально затронула, но о том, в каком направлении она развернула ваши мысли? Как она повлияла на ваше понимание собственной жизни и идентичности? На какое действие история Эми вдохновила вас или поддержала или бросила вызов?
Вот четыре отклика «внешних свидетелей» на историю Эми. Я выделил слова, передававшие изменения, произошедшие в жизни этих свидетелей благодаря словам Эми:
- Эми, я знаю, что ты дала своё показание для комитета Сената, чтобы предотвратить дальнейшие потери жизней ветеранов. Обычно, когда я думаю о самоубийствах ветеранов, мне не приходят в голову женщины, над которыми совершают насилие другие военнослужащие. Но теперь я всегда буду знать. Я не забуду твою историю.
- Способы, которыми ты стараешься «дать голос» другим бывшим военнослужащим женщинам кажется для меня очень важным. Несмотря на описываемый тобою сводящий с ума стыд, ты каким-то образом нашла способ продолжать говорить о хищнической культуре, с которой ты столкнулась. Я поделюсь твоим свидетельством с другими известными мне бывшими военнослужащими женщинами, и также с коллегами, работающими в гражданских службах помощи людям, столкнувшимся с сексуальным насилием. Надеюсь, что твой голос поможет другим найти свой.
- Больше всего меня тронула та часть твоей истории, Эми, в которой ты показала заботу о нас, тех, кто может услышать или прочитать твоё свидетельство, тех, про кого ты даже не знаешь. Несмотря на всё, что ты вынесла, включая жестокие реакции, ты переживаешь за нас — получателей твоих показаний. В твоём переживании есть что-то такое, что останется со мной.
- Пусть записи покажут «настоящую цену службы для сил обороны». Я никогда не думал о значимости этого принципа раньше, но каким-то образом ты показала это, пусть даже тебе было очень тяжело говорить. Я буду дальше размышлять о честном учёте стоимости действия наших служб обороны — включая тела и сознание женщин.
В рамках нарративной практики мы стараемся проводить «церемонии самоопределения» — церемонии, переопределяющие идентичность (Myerhoff, 1982). Эти неформальные церемонии могут действовать немного похоже на упомянутые в начале этой статьи первые встречи дискуссионных групп, на которых ветераны говорили о том, что важно для них, перед лицом внешних свидетелей. Это позволяет дать свидетельство и признание, вносящие вклад в усиление предпочитаемых историй «идентичности» ветеранов[21].
Обмен письмами
Из того, какую значимость в своём описании Гарри Моффит придаёт получению и обмену письмами, кажется важным задействовать богатую традицию написания писем и передачи посланий и в нарративной практике (Madigan, 2011). Документирование во многих психологических моделях фокусируется в основном на медицинских картах, в которых записывается только проблемная история. В рамках же нарративной практики письма используются с целью сделать видимыми и признать навыки и знания людей, дать возможность индивидам, семьям и группам принять участие в жизнях друг друга.
Вот пример терапевтического документа от нарративного терапевта девушке-ветерану, которую она консультировала в связи с её моральной травмой:
Некоторые из наших самых глубоких диалогов включали в себя твои слова о том, что важно для тебя. Ты рассказывала, как, когда ты следовала определённым принципам или ценностям, то больше не чувствовала дистресса. И говорила о значимости морального компаса — и во время войны, и после.
Меня очень тронула рассказанная тобою история «смелого молодого солдата» в Ираке, застрелившего пожилого мужчину на блок-посте; как, несмотря на то, что в соответствии с условиями службы его действия могли быть признаны законными, это привело юношу — к которому ты испытывала искреннее неравнодушие — к последующему самоубийству. Две трагические смерти. Ты рассказала мне эту историю как иллюстрацию важности морального компаса. Того, что «мы всегда должны задаваться вопросом, как это будет влиять на меня в долгосрочной перспективе». Это вопрос, который остаётся со мной. Этот вопрос я буду задавать и себе тоже.
Ты говорила со мной и о некоторых важных для тебя ценностях: «Больше всего я ценю честность и чувство, что меня любят. Принципы, по которым я стремлюсь жить, это ценность, вера в себя, бескорыстность — мы часть системы, важная её часть».
Ты также говорила мне о важности «видеть в людях людей». Ты сказала: «Здесь, в Австралии, люди иногда судят и критикуют или высказывают мнения, впитанные ими из разных медиа. Они так сильно застревают в чёрно-белом мышлении. Например, что если кто-то является арабом, то он не может горевать над потерей. Но я видела, как родители держат своих умерших во время взрыва детей на руках. Я видела столько горя, я вижу в людях людей».
Это кажется действительно ценным для меня. В культуре военных действий много усилий направлено на то, чтобы «перестать видеть в людях людей» и, как ты сказала, говорить о «сопутствующем ущербе». Но каким-то образом ты смогла удержаться за возможность «видеть в людях людей». Ты отказалась преуменьшать страдания людей. Фактически, ты продолжаешь отдавать дань уважения страданиям другим людей.
Ты также не забыла тех, кто умер.
Ты говорила об определённых ритуалах. В годовщины, например, ты можешь пересмотреть фильм «Снайпер», чтобы отдать дань памяти и уважения Дугу и остальным. Ты говорила, что это помогает тебе восстановить связь с тем, как это чувствовалось — та энергия, лихорадка — и воссоединиться с Дугом. Пусть даже это привносит в твои последующие дни бессонницу и переживания, ты намерена помнить.
Ты поделилась со мной, что иногда к тебе приходят яркие образы людей, про которых ты знаешь, что они умерли. Временами они настолько же реальны, как если бы ты смотрела на других людей в комнате. Эти люди умерли. Многие забыли их, но не ты. Ты продолжаешь их видеть.
Из твоих слов кажется, что иногда твоя память об умерших помогает другим. Меня очень тронула эта история: ты рассказала, как во время своего визита в Америку решила пойти и поговорить с родителями Дуга. Ты делилась тем, каким значимым было для тебя это событие, и как родители Дуга сказали тебе, что они почувствовали себя чуть ближе с сыном благодаря твоему визиту. Ты сказала им, каким был их юный сын в Ираке, кем он был для тебя, о чём вы говорили друг с другом.
Назвала бы ты этот шаг визита к родителям Дуга шагом «честности и любви»?
Это только несколько вещей из тех, о которых мы говорили, Мишель.
Я очень ценю возможность слышать о шагах, предпринятых тобою для «воссоединения с человеческой расой».
Надеюсь, тебе будет помогать видеть это записанным.
С большим уважением,
Луиза.
Обобществляя горе и создавая через это возможности для взаимодействия
Джонатан Шэй в своём мощном труде о моральной травме писал о важности «обобществления горя» (Shay, 1994, p. 5) с тем, чтобы ветераны не оставались одни в своих печалях. В этой части я бы хотел описать, как практики восстановления участия и «снова сказать здравствуй» могут также осуществляться коллективно.
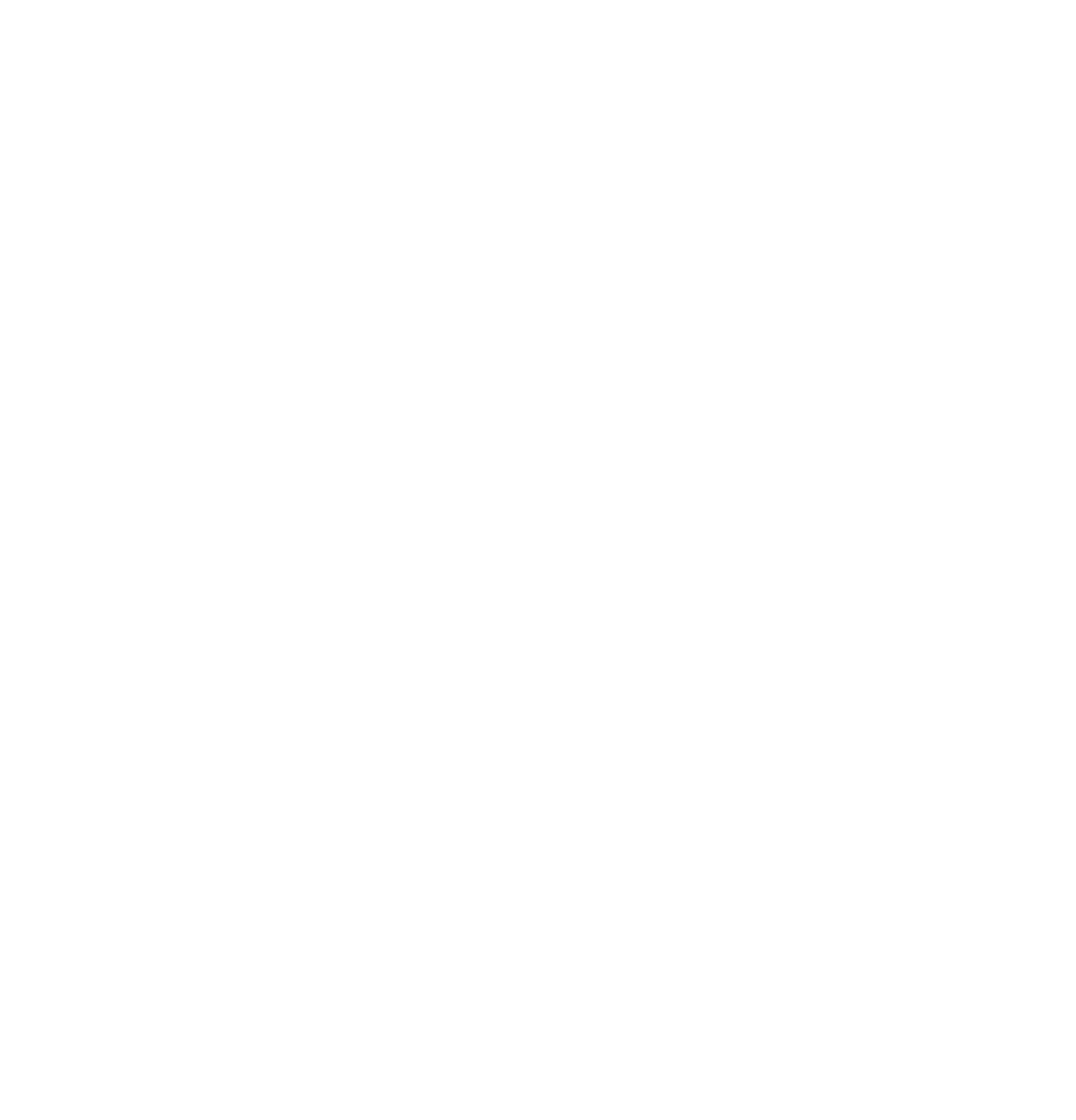
На последних встречах за ужином с афганскими переводчиками, работавших для австралийских и других военных сил в Афганистане, стало понятно, что многие из них страдают от конкретных воспоминаний о своём военном опыте. И вместо приглашения их к рассказам ради собственной пользы, мы спросили, могут ли они создать своего рода ресурс для других переводчиков, которые могут страдать от похожих проблем с воспоминаниями. Последовало оживлённое согласие, и теперь мы в процессе создания коллективного документа под названием «Как мы справляемся с печальными воспоминаниями, которые невозможно стереть? Послание от афганских переводчиков, работавших во времена войны». Этот коллективный документ включает описания уникальных способов, какими переводчики «помогали друг другу пройти» через воспоминания, и также как они стараются «отвести воспоминания» от печали:
Важно, что мы не даём никому на наших собраниях промолчать. Если кто-то молчит, мы настаиваем, чтобы они тоже поделились своим забавным опытом, или даже если он грустный, мы стараемся сделать его забавным. Например, в моей ситуации, у меня не выпытывают подробностей о теле Ахмада или застреленного мальчика, но спрашивают, что я делал в то время, как оценил ситуацию, как долго добирался до дома, что делали другие солдаты, насколько сильными они были, кричали они или нет, какой была реакция солдат, что я в это время переводил, толковал и т. д[22]. Их вопросы помогали мне пройти через воспоминание и отвести его от печали.
Даже здесь, в Австралии, я поставил в своей спальне большое зеркало и почти каждое утро, когда я смотрю в зеркало, то спрашиваю свою жену: «Эй, посмотри на меня — как я выгляжу?» Моя жена долго не понимала, что происходит, и просто отвечала «отлично». Даже смотрясь в зеркало в магазине, я спрашиваю людей вокруг: «Эй, посмотри на меня — как я выгляжу?»
Иногда, когда я хожу в супермаркет Coles, то покупаю в память о нём чёрный шоколад.
К двум самым влиятельным коллективным документам в отношении горя относятся:
-
- Responding to so many losses: The special skills of the Port Augusta Aboriginal community (Denborough, Koolmatrie, Mununggirritj, Marika, Dhurrkay, & Yunupingu, 2006), распространённый среди большого числа аборигенных сообществ и
-
- Holding our heads up: Sharing stories not stigma after losing a loved one to suicide (Sather & Newman, 2015) который теперь расширяется, чтобы включить в себя участие семей военных.
Создание команды
Теперь я хочу вернуться к описанию Комментатора от Гарри Моффита:.
Я не знал, к чему это приведёт, но согласился поехать в Индию. Оказалось, что привело к хорошему. (Moffitt, 2020a, p. 230)
О силе спортивных и командных метафор я узнал от юных военных ветеранов — бывших детей-солдат в Уганде. Наши коллеги спросили нас о способах помочь им справляться с их военными переживаниями[23], и мы встретились с этими юношами в лагере для беженцев неподалеку от суданской границы. Первое, что я увидел по прибытию в лагерь — как умело и радостно они играют на футбольном поле. А затем получил от них важный урок. Было видно, что футбольное поле — это пространство, свободное от проблемных воспоминаний, но стоило юношам собраться в группу, где им предложили поговорить о военном опыте, как их головы опустились, энергия поменяла полюс и на нас всех обрушился стыд.
Думаю, это справедливо и для многих более старших ветеранов войны. Эти молодые люди научили меня, что если прямой разговор о военных переживаниях приносит только стыд, нужно искать другие способы.
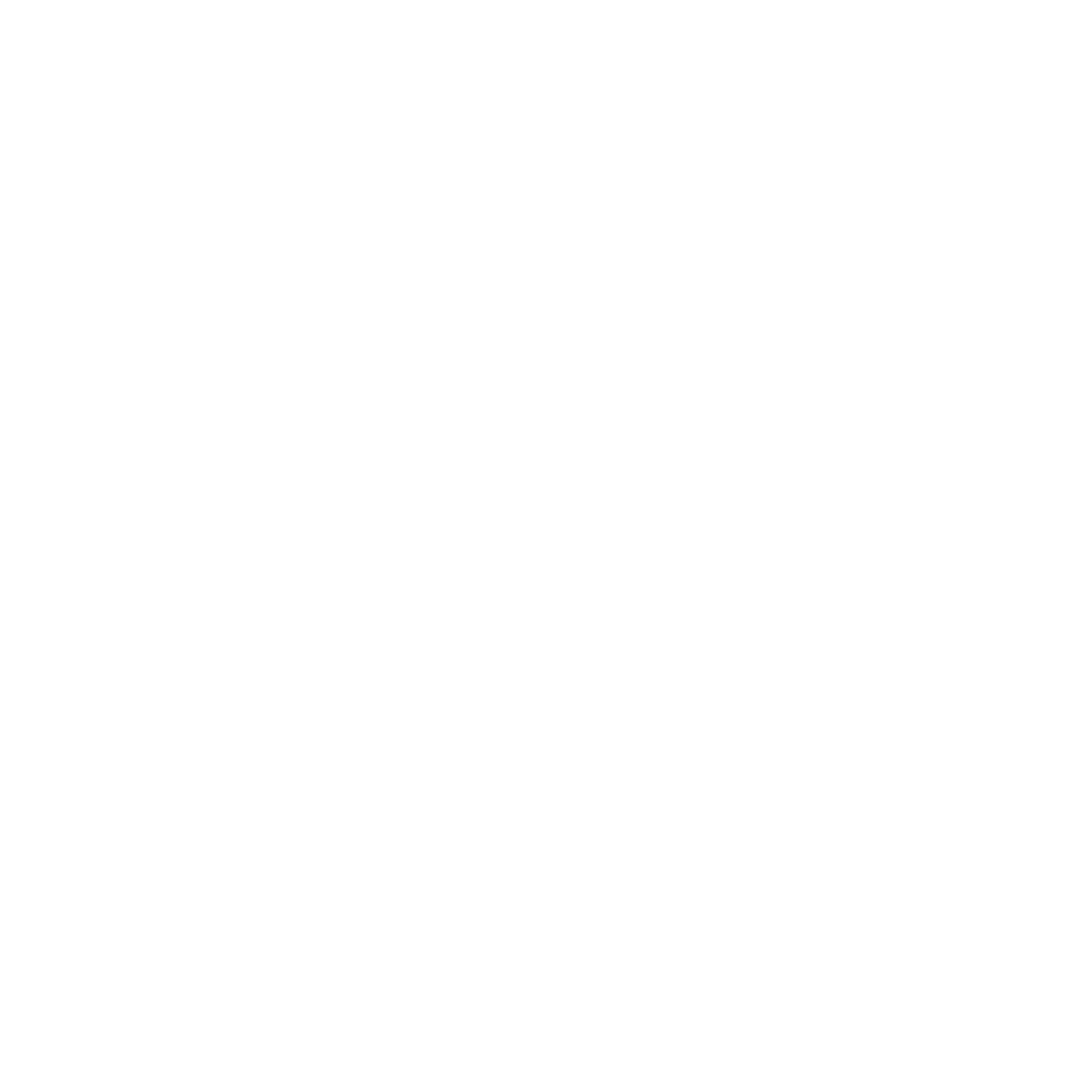
Часть 1: «Создание «команды жизни»
Есть много способов думать о наших жизнях и идентичностях. Один из способов — думать о нашей жизни как о клубе, ассоциации или команде. Первая часть этой методологии включает создание каждым человеком своей «команды жизни». Как это часто делают в футболе, можно нанести её на бумагу в виде списка состава. В процессе фасилитатор может задать множество вопросов:
- Кто в твоей жизни может стать членами команды? Это могут быть люди, которые живы сейчас или уже умерли. Они могут быть в твоей жизни в настоящее время или остаться в прошлом. Какие люди были наиболее влиятельными (в позитивном ключе) в твоей жизни? Это члены команды, которых мы хотим включить в твою «команду жизни».
-
- Твой вратарь: Кто твой вратарь? Тебе нужно назвать одного человека, присматривающего за тобой, оберегающего твои цели, на кого можно положиться, кто бы это мог быть?
-
- Твой защитник: Кто ещё помогает тебе в защите твоих мечтаний, в защите того, что для тебя ценно?
-
- Твой «нападающий»: Кто помогает тебе и поддерживает в стараниях достичь целей?
-
- Другие члены команды: Кто является другими членами команды в твоей жизни, с кем ты играешь, чьей компанией ты наслаждаешься?
-
- Тренер: От кого ты научился большему? Можно иметь больше одного тренера. И может быть так, что он всё ещё жив или уже умер. Чему они тебя научили?
-
- Болельщики на трибунах: Если представить игру на домашнем стадионе, какие болельщики присутствуют на трибунах? Кто эти люди (живущие или нет), питающие надежду, что ты справишься?
Иногда те, кто пережил войну, могут не хотеть говорить о своём опыте. У них может быть не так много устных слов для описания того, через что они прошли. Так было и для юных бывших детей-солдат, вдохновивших меня на создание подхода «Команда жизни». Но благодаря любви к футболу для них стало возможным говорить о своих жизнях через спортивные метафоры.
Часть 2: Создание карты целей
Когда коллективное чувство идентичности - «команда жизни» — создано, становится возможным вести дальнейшие непрямые разговоры. Следующий шаг включает в себя идентификацию одной цели, которую эта команда уже достигла. Обратите внимание, пожалуйста: я не спрашиваю людей, что они лично достигли. Это другой вопрос, и в нём большой риск неудачи. Мы ищем признания коллективной цели. Может быть, человек играл только маленькую роль в достижении этой цели. Никоим образом это не преуменьшает значимости командного достижения. И это не должно быть великим достижением. Наоборот, мы заинтересованы в коллективных достижениях, которые часто не относятся к широко признаваемым. Например, один юноша прибыл в Австралию в статусе беженца и обладал малым запасом слов (но любил футбол); он нарисовал «карту целей» с признанием достижения «оставаться вместе в трудные времена». Эта карта целей показывала, как его сестра, мать, друг и сам молодой человек, действовали вместе, чтобы остаться друг с другом. Она также свидетельствовала продолжающиеся вклады человека, которого больше не было в живых. Затем мы ритуально разыгрывали достижение этой прошлой цели, признавая усилия не только самого молодого человека, но и его любимых людей — живущих и уже умерших.
Часть 3: Разговоры о проблеме через метафору
Когда появилось чувство идентичности и присвоение достижения (через празднование карты целей), становится возможным говорить о том, против какой «оппозиционной команды» выступает человек. Эта оппозиционная команда может включать в себя стыд, горе, зависимость, отчаяние и т. д. Вот пример «оппозиционной команды», созданной молодыми людьми из Индии благодаря метафоре крикета (хотя для этих целей может быть использован любой спорт):
- Wicketkeeper: зависимость и пристрастие к наркотикам
- Deep fine leg: рэкет и эксплуатация полицией и политиками
- Third man: общественная стигма и позорное пятно
- Cover: неустроенность и отсутствие (легальных) возможностей для работы
- Long off: необразованность и небрежность в школе
- Deep mid-wicket: бедность
- Deep square leg: голод
- Short mid-wicket: месть и возмездие
- Long on: жестокость и бандитские разборки
Я делюсь здесь подходом «Команда жизни», потому что верю, что нам нужно создать и адаптировать свои способы работы таким образом, чтобы люди, не стремящиеся говорить прямо о своих опытах войны, могли бы делать это через метафору.
Гарри Моффит описал не только влияние Комментатора на свою жизнь и чувство идентичности, но и свои путешествия в Индию с крикетной командой. Он находился в процессе горевания и исцеления травм физических и моральных, и путешествие действительно сильно повлияло на него:
Более того, часто для преодоления моральной травмы требуется действие.
Действия по возмещению морального ущерба
Термин «моральная травма» позволяет избежать дискурса психического здоровья, размещающего людей в позиции нуждающихся «в лечении», вместо этого фокусируя наше внимания на потенциале сотрудничества в осуществлении действий по моральной репарации.
Тина Молендайк задокументировала некоторые из ритуалов голландских ветеранов, участников массовой резни в Сребренице:
В послевоенные периоды ветераны войны во Вьетнаме инициировали туры возвращения и проекты, позволяющие сделать вклад в жизнь людей во Вьетнаме. Одна из этих программ, the Australia Vietnam Volunteers Resource Group (https://www.avvrg.org.au/) сейчас охватывает больше 150 участников и включает в себя проектные команды в сфере здоровья и образования[25].
Из недавних примеров — программа Timor Awakening:
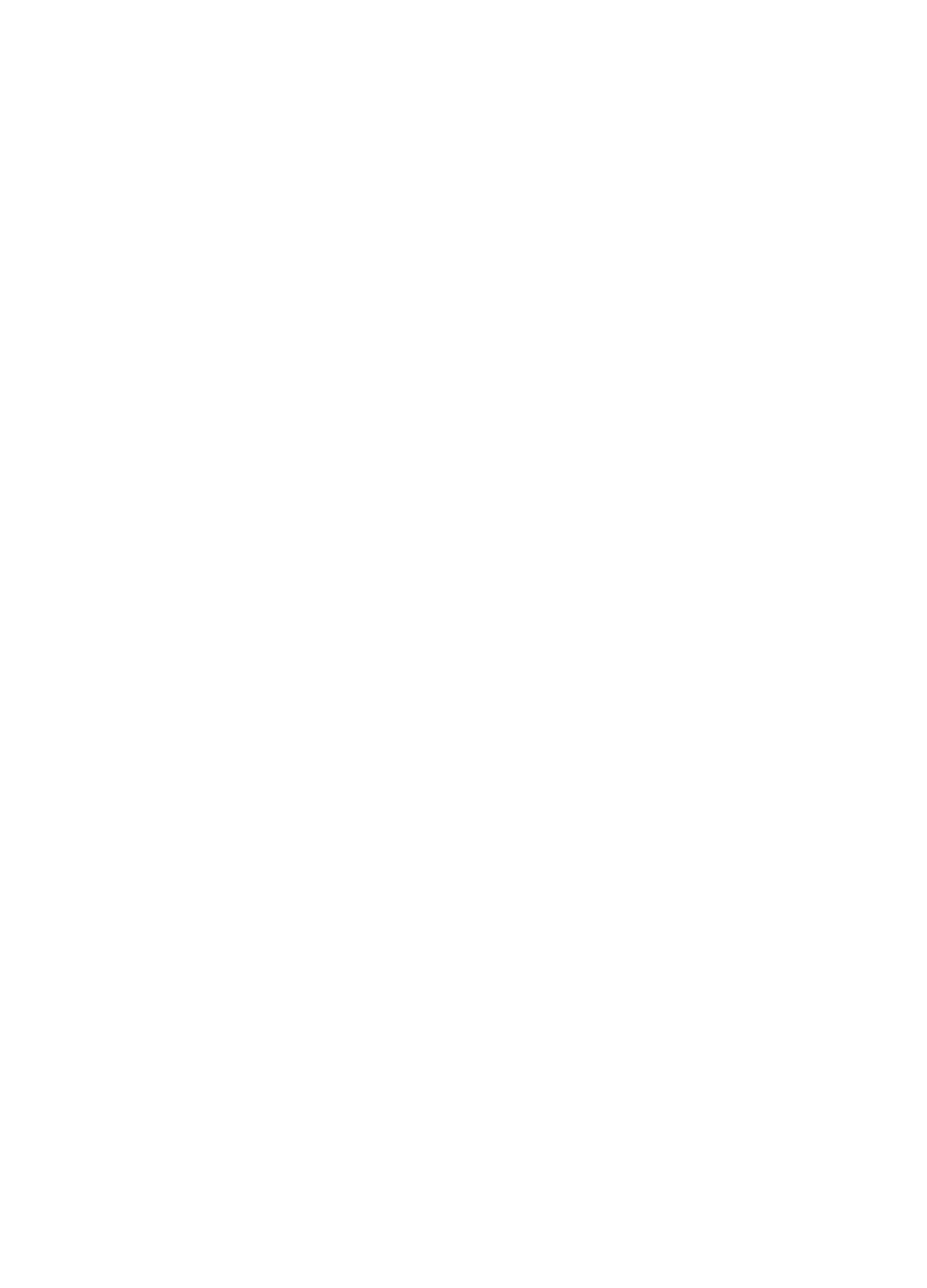
Гарри Моффит, бывший командир группы, недавно уволившийся из Австралийских военных сил после практически 30 лет службы в SAS, описывает регулярное использование оценки сопутствующего ущерба (CDE):
Есть другие действия и проекты возмещения морального ущерба. Некоторые из них очень личные, как восстановительная встреча между бывшим медиком SAS Дасти Миллером и сыновьями мирного жителя Хаджи Сардара, предположительно убитого другим австралийцем или австралийцами.
Ветераны прокладывают путь к программам возмещения морального ущерба
Большинство упомянутых мною проектов по возмещению морального ущерба были инициированы ветеранами и сосредоточены на действии, на стремлении активно уменьшать нанесённый людям ущерб (включая мирных жителей Вьетнама, Ирака и Афганистана). Это противоречит тому, как обычно понятие моральной травмы используется в психологических кругах; в описании бывшего моряка тайлера будро (2019):
Совместная ответственность, совместное восстановление
Говоря о социальной ответственности, ответственность за моральное насилие в недавних войнах, в которых участвовали австралийские (и американские) солдаты, лежит не только на людях из военных сил. А что по поводу политиков и более широких общественных слоёв?
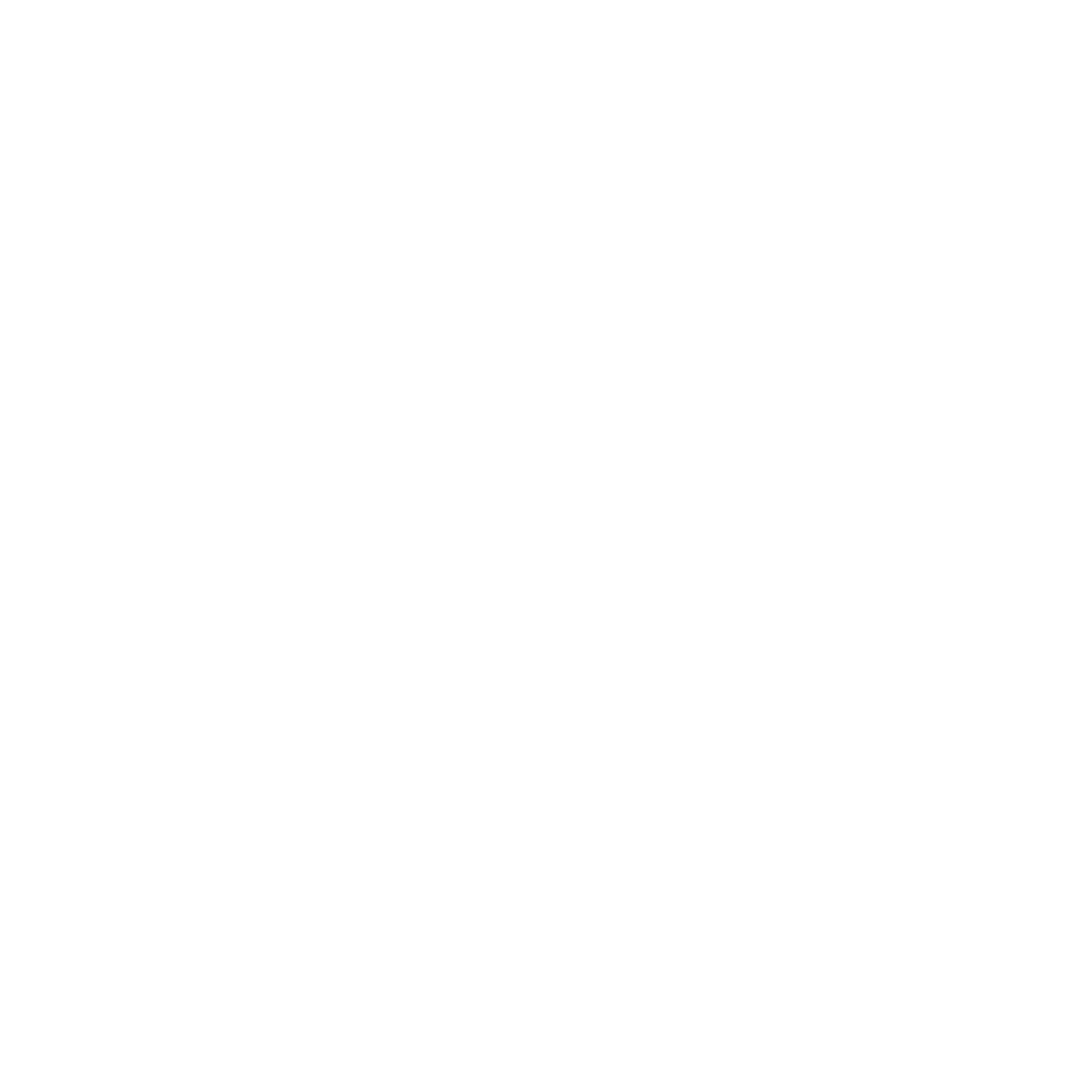
Несмотря на все усилия, я не могу игнорировать ошибки, совершённые мною на следовательской службе в Фаллуйе. Я не смог отказаться от подчинения недостойному приказу, я не смог защитить заключённого, находящегося под моей опекой, я не смог следовать стандартам человеческого достоинства. Вместо этого я оскорблял, унижал и мучил человека, который не мог себя защитить. Я пошёл на сделку со своими ценностями...я отчаянно хочу продолжать свою жизнь и стереть воспоминания об Ираке. Но эти воспоминания и переживания принадлежат не мне. Они принадлежат истории. Если мы обречены повторить забытую нами историю, то что станет последствиями так и не узнанной нами? Как бы это не было неприятно, мирные жители и правящие слои страны обязаны обратиться к воспоминаниям о том, что происходило в будках для допроса в Ираке. История Абу-Грейб не закончена. Во многих смыслах её страницы ещё только предстоит открыть (Fair, 2007)
Где моральная включённость обыденных австралийцев в связи с этими событиями?
Ответственность мирных жителей: больше, чем признание героизма и благодарность
Сегодня есть утверждения, что ответственность гражданских за поддержку военных [30] в основном состоит в том, чтобы встречать их по возвращению как героев и благодарить за службу. Однако есть и те, кто указывает на ограниченность такого подхода:
Проекты дружбы
Моим проводником в эту область стала дружба с доктором Абдуллой Гаффаром Станикзаем, с которым мы познакомились на тренировке в крикетном клубе Kenilworth. Посреди моих «как-можно-быстрее» подач и его кручёных бросков мы обнаружили и другие общие интересы. Свои профессиональные жизни мы оба посвятили ответам на разные социальные страдания и несправедливости. Абдулла Гаффар начинал как врач, а затем стал следователем и адвокатом по делам о насилии над правами человека в Афганистане. Моя деятельность заключалась в другом, я пытался работать с группами и сообществами для развития таких форм практики, которые бы культурно и социально им соответствовали, и были способны принести немного облегчения от страданий.
В начале этой статьи я описывал эпизод своего первого знакомства с термином «моральной травмы». В тот день доктор Станикзай давал показания для расследования Бреретона, а я от команды следователей узнал, что некоторые из осведомителей ADF очень сильно страдали. Зная от Абдуллы Гаффара, что расследование Бреретона связано с тем, кто участвовал в войне в Афганистане, я написал осведомителям ADF следующее письмо и попросил комиссию передать его им.
Они говорят со мной о расследовании и том, как важно для них, что некоторые австралийцы честно признают насилие, произошедшее в Афганистане. Они говорят мне, что для них очень значимо проведение этого расследования. Они говорят, что для всей Австралии очень важно, что люди честно пытаются признать, что произошло.
Они уже знали о насилии и незаконных смертях. И они знали о насилии, совершённом военными других стран в Афганистане. Но что для них невероятно значимо, то это то, что эти акты насилия не преданы забвению. Что люди — среди которых ты — делают, что в их силах, чтобы восстановить справедливость.
Мои афганские друзья очень ценят Австралию...они создают здесь новую жизнь и у них есть шанс на мирную жизнь здесь. Для них так важно, что ты говоришь правду. Слова об этом доходят до Афганистана. Благодаря тебе и расследованию, люди в Афганистане понимают, что Австралия не забыла случившиеся акты насилия. Они считают это достойным действием.
Сегодня я услышал, что кто-то отправил тебе письмо с угрозами. Я просто хотел, чтобы ты знал, что другие люди в Австралии и Афганистане поддерживают тебя. Мы понимаем, что может быть трудно говорить правду после того, как ты оказался вовлечён в несправедливые деяния. Но то, что ты делаешь, очень важно для нас.
Спасибо тебе.
С большим уважением,
Дэвид Денборо
Фонд Далвич-центра
Сейчас доктор Станикзай и фонд Далвич-центра инициируют программы афгано-австралийской дружбы для коллективных действий по моральному восстановлению в надежде, что они смогут помочь как афганцам, так и австралийцам[32].
Как объяснил доктор Станикзай:
Мы надеемся, что, создавая возможности для участия и гуманитарного взаимодействия с людьми Афганистана, эти проекты облегчат путь для бывших и нынешних служащих ADF и гражданских мужчин и женщин, участвовавших в войне в Афганистане.
Также мы надеемся на совершение небольших, но важных вкладов в жизни людей Афганистана — тех, кто там живёт, и тех, кто пытается найти безопасность в другом месте. Мы надеемся, что эти программы помогут афганским переводчикам опереться на дружбу при создании своих новых жизней в Австралии (из личного общения с А. Г. Станикзаем, 5 июня 2021 г.).
Передача способов справляться с печальными воспоминаниями, которые невозможно стереть
Когда мы завершим коллективный документ/фильм афганских переводчиков, посвящённый «способам справляться с печальными воспоминаниями, которые невозможно стереть», мы будем искать способы разделить его с ветеранами ADF и прошедшими через войну мирными людьми и обменяться идеями и историями.
Поддержка афганцев в создании новых жизней
Многие афганцы в Австралии сейчас отчаянно переживают за свои семьи, друзей и коллег в Афганистане, сами пытаясь свести концы с концами и создать новые жизни. Одно из немногих мест, где регулярно встречаются австралийские и афганские люди, это крикетное поле. Мы планируем собрать вместе команды афганских переводчиков и ветеранов ADF с тем, чтобы сыграть с/против друг друга и в то же время использовать их матчи для сбора денег в поддержку афганских семей, пытающихся организовать жизнь на новой земле.
Связи между осведомителями и специалистами в сфере прав человека
Афганские специалисты в сфере прав человека — многие, включая доктора Абдуллу Гаффара Станикзая — были вынуждены покинуть Афганистан и искать убежище в других землях. Осведомители ADF в это время силятся облечь в слова те ситуации с нарушениями прав человека, которые они видели/в которых участвовали. Мы планируем каким-то образом свести эти две группы вместе, поскольку они обе глубоко переживают за нарушения прав человека.
Три этих небольших проекта будут стремиться обеспечить австралийских ветеранов, страдающих от моральных травм после военной службы в Афганистане, способами сделать небольшие, но значимые вклады в жизни людей в Афганистане. Будут приветствоваться и вклады партнёров ветеранов, их детей и друзей.
Не отделяя исцеление от публичного действия
Ранее в этой статье я упоминал, как ранние дискуссионные группы организации «Ветераны Вьетнама против войны» (Vietnam Vets Against the War (VVAW)) не отделяли исцеление от публичного действия:
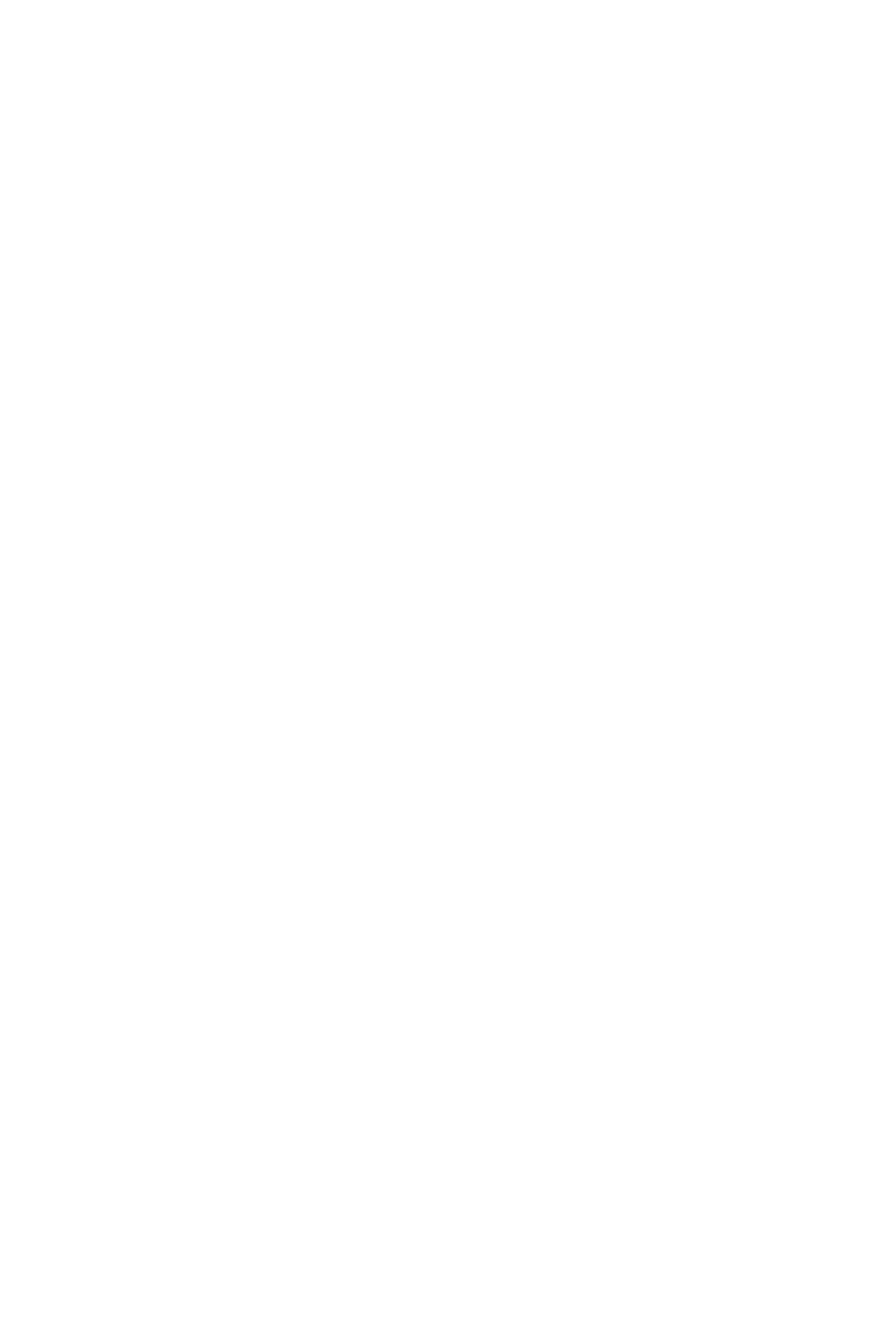
С первых дискуссионных групп прошло пятьдесят лет, и теперь я тоже верю в значимость взаимосвязи «исцеления» с социальным действием. Я верю, что понятие моральной травмы может помочь выйти за рамки медикализации долгосрочных последствий войны. Это понятие поможет восстановить связи между «исцелением» и «действием».
Как этому могут способствовать и инструменты нарративной терапии и работы с сообществами. В этой статье я изложил следующие идеи и практики:
- нарративная метафора
- экстернализующие разговоры
- двойное слушание и признание ответов на травму
- беседы по восстановлению авторства
- концепт «отсутствующего, но подразумеваемого», и «дистресс как верность»
- практики «снова сказать здравствуй» и восстановления участия
- отклики внешних свидетелей и церемонии самоопределения
- создание писем и коллективных документов
- подход «Команда жизни»
- понятие «создания возможности для участия» - создание контекстов, в которых те, кто столкнулся со сложностями и страдает от их последствий, могли бы сделать вклады в жизни других, столкнувшихся со схожими страданиями.
Элиот Папазахариакис сделал вклад в исследования для этой статьи и дал обратную связь. Сара Роско расшифровала множество интервью!
- Alford, C. F. (2016). Depoliticizing moral injury. Journal of Psycho-Social Studies, 9(1), 7–19.
- Alternet.org. (2010, July 22). “We live with ghosts and demons”: Soldiers who took part in torture suffer from severe PTSD. Retrieved from https://www.alternet.org/2010/07/we_live_with_ghosts_and_demons_soldiers_who_took_part_in_torture_suffer_from_severe_ptsd/
- boudreau, t. (2011). The morally injured. Massachusetts Review, 52(3/4), 746–754.
- boudreau, t. (2019). Feast or famine. In Brad E. Kelle (Ed.), Moral injury: A guidebook for understanding and engagement (pp. 47–58). Lanham, MD: Lexington.
- boudreau, t. (2021). Moral injury: What’s the use? International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (4), 64–70.
- Brereton, P. L. G. (2020). Inspector-General of the Australian Defence Force Afghanistan Inquiry Report. Canberra, Australia: Commonwealth of Australia. Retrieved from https://afghanistaninquiry.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/IGADF-Afghanistan-Inquiry-Public-Release-Version.pdf
- Brock, R. (2013, March 31). Soul repair [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=rIVYpRM8xtc
- Bullimore, P. (2003). Altering the balance of power: Working with voices. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (3), 22–28.
- Commonwealth of Australia. (2017). The constant battle: Suicide by veterans: Report of the Senate Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee. Canberra, Australia: Author.
- Cortright, D. (2005) The peaceful superpower: The movement against War in Iraq. In J. Leatherman & J. Webber (Eds.), Charting transnational democracy (pp. 75–99). New York, NY: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781403981080_4
- Denborough, D. (2005). A framework for receiving and documenting testimonies of trauma. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (3&4), 34–42. Reprinted in D. Denborough (Ed.), (2006), Trauma: Narrative responses to traumatic experience (pp. 115–131). Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
- Denborough, D. (2008). Collective narrative practice: Responding to individuals, groups, and communities who have experienced trauma. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
- Denborough, D. (2010). Working with memory in the shadow of genocide: The narrative practices of Ibuka trauma counsellors. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Foundation International.
- Denborough, D., Koolmatrie, C., Mununggirritj, D., Marika, D., Dhurrkay, W., & Yunupingu, M. (2006). Linking stories and initiatives: A narrative approach to working with the skills and knowledge of communities. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (2), 19–51.
- Downs, J. (2003). Partnership. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (3), 18–21.
- Dowse, K. (2017). Thwarting shame: Feminist engagement in group work with men recruited to patriarchal dominance in relationship. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (1), 1–9.
- Egendorf, A. (1975). Vietnam veteran rap groups and themes of postwar life. Journal of Social Issues, 31, (4), 111–124.
- Eichler, M. (2017). Add female veterans and stir? A feminist perspective on gendering veterans research. Armed Forces and Society, 43(4), 674–694.
- Fair, E. (2007, February 9). An Iraq interrogator’s nightmare. Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2007/02/09/aniraq-interrogators-nightmare/648fb496-dff4-48ac-b165-dbd13ffa59d5/
- Fair, E. (2014, April 11). The US must open the book on the use of torture to move forward. Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/opinions/the-us-must-open-the-book-on-the-use-of-torture-tomove-forward/2014/04/11/67925756-c18e-11e3-bcecb71ee10e9bc3_story.html
- Faulkner, A. (2019, August 29–30). Come in, Spinner. The Advertiser (SA Weekend), pp. 8–9.
- Freedman, J. (2012). Explorations of the absent but implicit. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (4), 1–10.
- Griffin, B., Purcell, N., Burkman, K., Litz, B., Bryan, C., Schmitz, M., … & Maguen, S. (2019). Moral injury: An integrative review. Journal of Traumatic Stress, 32, 350–362.
- Kirkuk Center for Torture Victims & Dulwich Centre Foundation International. (2012). Responding to survivors of torture and suffering: Survival skills and stories of Kurdish families. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Foundation International.
- Litz, B. T., Stein, N., Delaney, E., Lebowitz, L., Nash, W. P., Silva, C., & Maguen, S. (2009). Moral injury and moral repair in war veterans: A preliminary model and intervention strategy. Clinical Psychology Review, 29, 695–706. doi:10.1016/j.cpr.2009.07.003
- Looker, P. (n.d.). Suicide by Veterans and Ex-service Personnel Submission 267. Retrieved from https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/VeteranSuicide/Submissions
- Luintel, J. (2021). The Story Kitchen in Nepal: Seeking diverse forms of justice. A response to Adelite Mukamana’s ‘Ways of living and survival by children born out of rape during genocide’. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (4), 10–13.
- Madigan, S. (2011). Narrative therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
- Meagher, R. E., Hauerwas, S., & Shay, J. (2014). Killing from the inside out: Moral injury and just war. Eugene, OR: Wipf and Stock.
- Moffitt, A. H. (2020a). Eleven bats: A story of combat, cricket and the SAS. Crows Nest, Australia: Allen and Unwin.
- Moffitt, A. H. (2020b, December 11). The Duratus Mind – Ep25 – Harry Moffitt Australian SAS (SASR) Leader and Author [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=nkV-4RAw-0Q
- Molendijk, T. (2020). Soldiers in conflict: Moral injury, political practices and public perceptions (Doctoral dissertation). Radboud University, Nijmegen, Netherlands. Retrieved from http://hdl.handle.net/2066/208863
- Molendijk, T. (2021a). Warnings against romanticising moral injury. British Journal of Psychiatry, 1–3. doi: https://doi.org/10.1192/bjp.2021.114
- Molendijk, T. (2021b). Moral injury and Soldiers in conflict: Political practices and public perceptions. New York, NY: Routledge.
- Moon, Z. (2019a). Warriors between worlds: Moral injury and identities in crisis. Lanham, MD: Lexington.
- Moon, Z. (2019b). ‘Turn now, my vindication is at stake’: Military moral injury and communities of faith. Pastoral Psychology, 68, 93–105. https://doi.org/10.1007/s11089-017-0795-8
- Moon, Z. (2021). Mapping moral emotions and sense of responsibility with those suffering with moral injury. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (4), 71–75.
- Mukamana, A. (2021). Ways of living and survival by children born out of rape during genocide. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (4), 1–9.
- Myerhoff, B. (1982). Life history among the elderly: Performance, visibility, and re-membering. In J. Ruby (Ed.), A crack in the mirror: Reflective perspectives in anthropology (pp. 99–117). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Name Withheld. (2017, January 12). Suicide by Veterans and Ex-service Personnel Submission 376. Retrieved from https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/VeteranSuicide/Submissions
- Nudelman, F. (2015, June 10). New soldiers and empty boys: Imaging traumatic memory. Visual Studies, 30(2), 210–221. http://dx.doi.org/10.1080/1472586X.2015.1024967
- Nudelman, F. (2020). Sleeping soldiers and the war for the mind [Blog post]. Retrieved from https://www.processhistory.org/nudelman-sleeping-soldiers/Riordan, K. (2021, September 12). On 9/11 anniversary, veterans and refugees seek healing through nature, art, and heart-to-heart. Philadelphia Inquirer. Retrieved from https://www.inquirer.com/life/schuylkill-naturecenter-healing-event-veterans-refugees-immigrantsartists-20210911.html
- Romme, M., & Escher, S. (1993). Accepting voices. London, England: MIND.
- Romme, M., & Escher, S. (2000). Making sense of voices: A guide for mental health professionals working with voice-hearers. London, England: MIND.
- Safi, A. Z. (2020). Save our Aussie whistleblower David McBride. Retrieved from https://www.change.org/p/saveour-aussie-whistleblower-david-mcbride
- Sather, M., & Newman, D. (2015). Holding our heads up: Sharing stories not stigma after losing a loved one to suicide. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (2), 13–41.
- Scanes, J. (2019). Combat interpreters and a moral obligation. Human Rights Defender, 28(2), 16–18.
- Shatan, C. (1973). The grief of soldiers: Vietnam combat veterans’ self-help movement. American Orthopsychiatric Association, 43(4) 640–653. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1973.tb00834.x
- Shay, J. (1994). Achilles in Vietnam: Combat trauma and the undoing of character. New York, NY: Atheneum.
- Shay, J. (2002). Odysseus in America: Combat trauma and the trials of homecoming. New York, NY: Scribner.
- Shay, J. (2014). Moral injury. Psychoanalytic Psychology, 31(2), 182–191.
- Shephard, B. (2002). A war of nerves: Soldiers and psychiatrists 1914–1994. London, England: Random House.
- Strachyra, A. (2011). Being and becoming a US Iraq war veteran: An exploration of the social construction of an emerging identity (Doctoral dissertation). Loyola University Chicago. Retrieved from https://ecommons.luc.edu/luc_diss/197/
- Timor Awakening. (2018). Solidarity and friendship with Timor-Leste veterans. Retrieved from https://www.timorawakening.com/ Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture. (2014). Responding to trauma that is not past: Strengthening stories of survival and resistance – An Arabic narrative therapy handbook. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Foundation International.
- Wade, A. (1997). Small acts of living: Everyday resistance to violence and other forms of oppression. Contemporary Family Therapy, 19(1), 23–39.
- Walker, J. I. (1983). Comparison of “rap” groups with traditional group therapy in the treatment of Vietnam combat veterans. Group, 7(2), 48–57.
- White, M. (1988). Saying hullo again: The incorporation of the lost relationship in the resolution of grief. Dulwich Centre Newsletter, (Spring), 7–11.
- White, M. (1993). Histories of the present. In S. Gilligan (Ed.), Therapeutic conversations (pp. 121–132). New York, NY: Norton.
- White, M. (1995). Psychotic experience and discourse (K. Stewart interviewer). In M. White, Re-authoring lives: Interviews and essays (pp. 112–154). Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
- White, M. (1999). Reflecting-team work as definitional ceremony revisited. Gecko, (2), 55–82. Reprinted in M. White, (2000), Reflections on narrative practice: Essays and interviews (pp. 59–85). Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
- White, M. (2000). Re-engaging with history: The absent but implicit. In M. White, Reflections on narrative practice: Essays and interviews (pp. 33–56). Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
- White, M. (2003). Community assignments and narrative practice. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (2), 17.
- White, M. (2004). Working with people who are suffering the consequences of multiple trauma: A narrative perspective. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (1), 45–76. Reprinted in D. Denborough, (Ed.), (2006). Trauma: Narrative responses to traumatic experience (pp. 25–85). Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications.
- White, M. (2007a). Externalizing conversations. Maps of narrative practice (pp.9-59). New York, NY: Norton.
- White, M. (2007b). Maps of narrative practice. New York, NY: Norton.
- Willacy, M. (2021). Rogue forces: An explosive insiders’ account of Australian SAS war crimes in Afghanistan. Sydney, Australia: Simon & Shuster.
- Wilson, M. A. (2014). Moral grief and reflective virtue. In W. Werpehowski & K. G. Soltis (Eds.), Virtue and the moral life: Theological and philosophical perspectives (pp. 60–75). Lanham, MD: Lexington.
- Yandell, M. (2016). Hope in the void. Plough Quarterly, 8, 52–57. Retrieved from http://www.plough.com/en/topics/justice/nonviolence/hope-in-the-void .
- Yandell, M. (2019). Moral injury and human relationship: A conversation. Pastoral Psychology, 68, 3–14. https://doi.org/10.1007/s11089-018-0800-x)
Приложения
Приложение 1: история терминологии военного синдрома. Эта таблица — из кандидатской диссертации Anna M. Strachyra (2011, pp. 163–164)[33]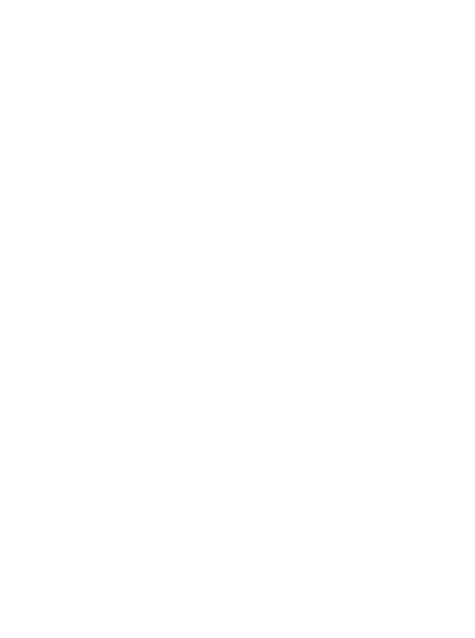
Есть весомые причины думать, что понятие моральной травмы уже столкнулось с риском повторить эту судьбу: «Учитывая, что хотя изначально исследования ПТСР содержали политическую критику, имморальный индивидуализированный медицинский дискурс достаточно быстро занял доминирующую позицию, можно допустить подобное будущее и для моральной травмы» (Molendijk, 2021b, p. 176). Вернуться к тексту.
Эти действия включали в себя проведение мероприятия «Зимний солдат» (1972), в процессе которого ветераны давали публичные показания о зверствах, в которых они принимали личное участие (См. https://www.youtube.com/watch?v=cP7iwF9a5sA). Последнее такое мероприятие прошло в 2008 году: «Зимний солдат: Ирак и Афганистан» (См.: https://vimeo.com/23421912)
Ещё одним важным публичным действием стала мощная акция протеста ветеранов, бросавшими свои медали на ступени Конгресса: «Бросая на ступени Конгресса медали за убийства в войне, которую они стали ненавидеть, ветераны символически сбрасывали часть своего стыда. Эта демонстрация имела не только сильнейшее политическое влияние, но и терапевтическое. Вместо подчинения приказам ветераны осуществляли самостоятельные действия в собственных интересах с тем, чтобы восстановить над событиями — над своими жизнями — контроль, отнятый у них во Вьетнаме (Shatan, 1973, p. 649).
Совсем недавно здесь, в Австралии, накануне публикации отчёта Бреретона некоторые австралийские ветераны пытались добровольно отказаться от благодарности в приказе особо отличившейся части (Willacy, 2021, p. 340-341). Вернуться к тексту.
Вернуться к тексту.
Кен Дэвис, охранник, запечатлённый на некоторых печально известных фотографиях Абу-Грейб, объясняет: «По возвращению множество солдат абсолютно потеряно. Особенно если это подразделение, обвинённое в насилие — и наблюдающее, как распространяется ложь о произошедшем, как люди отрицают увиденное. А мы теперь живём с привидениями и демонами, которые будут преследовать нас до конца нашей жизни»...Есть вариация жёлтой ленточки, приклеенной другим охранником Абу-Грейб к своей машине. Вместо «Поддержите военных» на ней было написано «Поддержите правду». Как он говорит, если вы действительно хотите поддержать женщин и мужчин, признайте, через что они прошли и что они сделали. Только тогда вы можете действительно признать, что это разрушило их, и помочь им исцелиться (Alternet.org, 2010) Вернуться к тексту.