Управление файлами cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Языковая справедливость: нарративная терапия на грани колумбийского магического реализма¹
Language justice: Narrative therapy on the fringes of Colombian magical realism
Language justice: Narrative therapy on the fringes of Colombian magical realism
марсела поланко²
marcela polanco
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF NARRATIVE THERAPY AND COMMUNITY WORK, 2016 , № 3 www.dulwichcentre.com.au
Перевод: нарративный практик Полина Хорошилова
marcela polanco
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF NARRATIVE THERAPY AND COMMUNITY WORK, 2016 , № 3 www.dulwichcentre.com.au
Перевод: нарративный практик Полина Хорошилова
Более ранняя версия этой статьи была представлена в качестве основного доклада на Тринадцатой конференции по терапевтическим беседам в Ванкувере, Канада, в апреле 2016 года.
Многие руки внесли свой вклад в формирование этого документа, и я хочу выразить им особую признательность. Это мой неутомимый наставник и друг David Epston; мой коллега, друг и соучастник, Tirzah Parish LeFeber, и mis queridas y muy Estimadas comadres y colegas (мои дорогие и уважаемые друзья и коллеги, по-испански) Daisy Ceja и Catalina Perdomo. Так или иначе, они разделяют авторство этих идей.
Нарративная терапия на периферии
марсела поланко входит в группу выпускников факультета психологии и семейной терапии в Our Lady of the Lake University в США. Она руководит двуязычным (испано-английским) дипломным курсом для выпускников и психологической службой для испаноязычных. Родилась в Колумбии, последние 20 лет живет в США, 14 из которых работает, совместно с Дэвидом Эпстоном, сооснователем нарративной практики, над переводом подхода на ее родной колумбийский испанский. Контакты для связи: mpolanco@ollusa.edu
Резюме. Когда проблемы могут говорить, мертвые люди могут говорить, надежда может ощущать вкус, а сердце, душа и разум могут танцевать вместе, в терапевтических беседах оживает новое дискурсивное пространство. В этой статье я обсуждаю переосмысление нарративной терапии в моей колумбийской культуре, применяя магический реализм в качестве литературного средства для вовлечения воображения в терапевтические беседы. Я нарушаю господствующие рациональные эпистемологические традиции доказательства, чтобы поместить практику нарративной терапии на периферию условностей. Я выдвигаю на передний план обыденную странность нарративных терапевтических бесед через абсурдность и творчество магического реализма. Я провожу дискуссию о «Макондо» Габриэля Гарсиа Маркеса в его романах, чтобы выразить невыразимое, найти непостижимое, прикоснуться к неприкасаемому, услышать неслышимое и высказать невыразимое в нашей жизни.
Ключевые слова: язык, справедливость, нарративная терапия, магический реализм, воображение.
Резюме. Когда проблемы могут говорить, мертвые люди могут говорить, надежда может ощущать вкус, а сердце, душа и разум могут танцевать вместе, в терапевтических беседах оживает новое дискурсивное пространство. В этой статье я обсуждаю переосмысление нарративной терапии в моей колумбийской культуре, применяя магический реализм в качестве литературного средства для вовлечения воображения в терапевтические беседы. Я нарушаю господствующие рациональные эпистемологические традиции доказательства, чтобы поместить практику нарративной терапии на периферию условностей. Я выдвигаю на передний план обыденную странность нарративных терапевтических бесед через абсурдность и творчество магического реализма. Я провожу дискуссию о «Макондо» Габриэля Гарсиа Маркеса в его романах, чтобы выразить невыразимое, найти непостижимое, прикоснуться к неприкасаемому, услышать неслышимое и высказать невыразимое в нашей жизни.
Ключевые слова: язык, справедливость, нарративная терапия, магический реализм, воображение.
Как мне передать, что сообщение, которое я хочу передать, не принадлежит английскому языку (Perez Firmat, 1994). В переводе с моего колумбийского испанского мне невольно пришлось отказаться от него, оставив его позади. Мне пришлось сделать это после того, как я провела больше времени, чем самая длинная река Колумбии, река Магдалена, с тщетной задачей - попытаться передать послание на английский язык в неизменном и оригинальном виде, как я знаю и понимаю его по-испански. В конце концов, я уступила бросающемуся в глаза выводу, что послание, которое я надеялась донести, в конце концов, было непереводимым. Только придя к такому выводу, я смогла бы почтить его и отдать должное языку. Я должна был признать, с моральным достоинством, которого это требует, что то, что принадлежит моему колумбийскому испанскому, принадлежит моему колумбийскому испанскому, а то, что принадлежит моему иммигрантскому английскому, принадлежит моему иммигрантскому английскому - и только когда я стою в пространстве между ними, двумя различными и особыми видениями жизни, я могу найти новые способы выразить их в форме, отличной от той, которая их породила и сформировала.
Я часто задаюсь вопросом, может ли этот вывод о непереводимости моих языков быть умопомрачительным для тех, кто владеет одним языком и даже билингвов. Я рассматриваю это, потому что даже для двуязычной, когда я поняла, что определенное видение моей жизни на одном языке непереводимо для другого, взорвало мой разум - к счастью, взрыв не был таким сильным, как те прискорбные и частые взрывы, свидетелем которых была моя страна во время гражданской войны. Я потратила несколько лет на поиски этих оторванных кусочков своего разума. Когда я их нашла, мне пришлось собрать каждую деталь, как паззл. Только тогда я смогла приступить к осмыслению того, что до сих пор казалось бессмысленным открытием. Дело в том, что то, что я изучаю и переживаю на одном языке, часто становится недоступным или непереводимым для исполнения на другом, из-за чего мне приходится оставлять свои словари и знания. Неожиданно, что этот бессмысленный урок о языке произошел не из теорий, которые я изучал в то время у Витгенштейна, Локка, Гадамера, Фуко или Делёза. Вместо этого этот урок был получен из того, что ученые-чиканы называют теорией во плоти (Moraga & Anzaldúa, 1983) - в данном случае - из моей собственной плоти и крови. Это был урок love (любви на английском) и amor (любви на испанском). Переехав в США из моей родной страны Колумбии, я узнала, что любить по-английски, love — это не то же самое, что любить по-испански, amor. Я обнаружила, что перешла на английский язык, чтобы заново узнать, что такое любовь, потому что я знала только, как любить по-испански (amar). Даже несмотря на то, что разбитые сердца некоторых из моих бывших колумбийских любовников могут оспаривать мое утверждение, имея свои очень веские причины.
Итак, это непереводимое сообщение, о котором я пишу, которое не принадлежит ни моему испанскому, ни моему английскому, адресовано тем, кого, как и само сообщение, я оставила позади.
Они есть:
Чтобы начать писать о моем непереводимом сообщении, я начну с его названия. Я назвал это ‘betweener’ message – промежуточным посланием «между людьми» (Diversity and Moreira, 2009). Это не относится ни к испанскому, ни к английскому языкам, а к пространству между ними, где они встречаются по-испански, в некотором роде спанглиш. Я пишу его название, потому что разделяю убеждение Габриэля Гарсиа Маркеса в том, что персонажи его романов не могут ходить на собственных ногах, пока у них нет имени, которое можно отождествить с их природой. Я надеюсь, что мое промежуточное послание, ‘betweener’ message, будет идти на своих собственных ногах и жить самостоятельно. Именно по этой причине я надеюсь передать некоторые из его частей тебе, читатель, даже если я не могу передать их так, как я хочу и до того, кому я, в итоге, желаю это послание.
Мое промежуточное сообщение - ответ на непереводимость. Речь идет о преобразовании смысла с одного языка на другой, когда в моем воображении я пыталась понять, как познать австралийскую версию нарративной терапии Эпстона и Уайта на моем колумбийском испанском. Подобно моим практикам любви, когда мне приходилось переходить на английский, чтобы понять, что такое любовь, которую я знала только на испанском, я должна был перейти на испанский, чтобы узнать, что такое нарративная терапия, потому что я знала, как это делать только на английском. Пришлось все начинать заново. Я обучалась нарративной терапии на английском языке, и когда пришло время практиковать ее на испанском, я не знала, как это сделать. Во время моих бесед нарративной терапии на испанском языке я обнаружила, что не могу подобрать слова, чтобы сформулировать свои запросы, потому что, по моему мнению, словари нарративной терапии были доступны только на английском языке. Итак, мое промежуточное сообщение: начать все сначала. Мне пришлось искать новые слова, которые больше подходили бы вкусовым рецепторам моего родного языка, испанского. Это потребовало от меня отказаться от непереводимых значений нарративной терапии на английском языке, которым они по праву принадлежали.
Я часто задаюсь вопросом, может ли этот вывод о непереводимости моих языков быть умопомрачительным для тех, кто владеет одним языком и даже билингвов. Я рассматриваю это, потому что даже для двуязычной, когда я поняла, что определенное видение моей жизни на одном языке непереводимо для другого, взорвало мой разум - к счастью, взрыв не был таким сильным, как те прискорбные и частые взрывы, свидетелем которых была моя страна во время гражданской войны. Я потратила несколько лет на поиски этих оторванных кусочков своего разума. Когда я их нашла, мне пришлось собрать каждую деталь, как паззл. Только тогда я смогла приступить к осмыслению того, что до сих пор казалось бессмысленным открытием. Дело в том, что то, что я изучаю и переживаю на одном языке, часто становится недоступным или непереводимым для исполнения на другом, из-за чего мне приходится оставлять свои словари и знания. Неожиданно, что этот бессмысленный урок о языке произошел не из теорий, которые я изучал в то время у Витгенштейна, Локка, Гадамера, Фуко или Делёза. Вместо этого этот урок был получен из того, что ученые-чиканы называют теорией во плоти (Moraga & Anzaldúa, 1983) - в данном случае - из моей собственной плоти и крови. Это был урок love (любви на английском) и amor (любви на испанском). Переехав в США из моей родной страны Колумбии, я узнала, что любить по-английски, love — это не то же самое, что любить по-испански, amor. Я обнаружила, что перешла на английский язык, чтобы заново узнать, что такое любовь, потому что я знала только, как любить по-испански (amar). Даже несмотря на то, что разбитые сердца некоторых из моих бывших колумбийских любовников могут оспаривать мое утверждение, имея свои очень веские причины.
Итак, это непереводимое сообщение, о котором я пишу, которое не принадлежит ни моему испанскому, ни моему английскому, адресовано тем, кого, как и само сообщение, я оставила позади.
Они есть:
- Те, кто меня не слышит, поскольку их текущие условия ограничивают их доступ к участию в подобных контекстах на английском языке;
- Те, кто не может читать или слышать меня, так как они научились познавать мир в более мудрых терминах - по цвету земли, шуму ветра, течению реки или вкусу своего духа. Возможно, к их счастью;
- Те, кто предпочитает использовать стены на улице, чтобы выразить свои красочные мысли и читать мысли других, а не на страницах бесцветной издательской индустрии;
- Те, кто не мог встретиться со мной, потому что социальные классы, которые нас разделяют, дали нам амнезию, заставив нас забыть, кто находится по другую сторону пропасти, и
- Те, чье биологическое и историческое существование было отнято у них без их согласия во имя жадности к власти.
Чтобы начать писать о моем непереводимом сообщении, я начну с его названия. Я назвал это ‘betweener’ message – промежуточным посланием «между людьми» (Diversity and Moreira, 2009). Это не относится ни к испанскому, ни к английскому языкам, а к пространству между ними, где они встречаются по-испански, в некотором роде спанглиш. Я пишу его название, потому что разделяю убеждение Габриэля Гарсиа Маркеса в том, что персонажи его романов не могут ходить на собственных ногах, пока у них нет имени, которое можно отождествить с их природой. Я надеюсь, что мое промежуточное послание, ‘betweener’ message, будет идти на своих собственных ногах и жить самостоятельно. Именно по этой причине я надеюсь передать некоторые из его частей тебе, читатель, даже если я не могу передать их так, как я хочу и до того, кому я, в итоге, желаю это послание.
Мое промежуточное сообщение - ответ на непереводимость. Речь идет о преобразовании смысла с одного языка на другой, когда в моем воображении я пыталась понять, как познать австралийскую версию нарративной терапии Эпстона и Уайта на моем колумбийском испанском. Подобно моим практикам любви, когда мне приходилось переходить на английский, чтобы понять, что такое любовь, которую я знала только на испанском, я должна был перейти на испанский, чтобы узнать, что такое нарративная терапия, потому что я знала, как это делать только на английском. Пришлось все начинать заново. Я обучалась нарративной терапии на английском языке, и когда пришло время практиковать ее на испанском, я не знала, как это сделать. Во время моих бесед нарративной терапии на испанском языке я обнаружила, что не могу подобрать слова, чтобы сформулировать свои запросы, потому что, по моему мнению, словари нарративной терапии были доступны только на английском языке. Итак, мое промежуточное сообщение: начать все сначала. Мне пришлось искать новые слова, которые больше подходили бы вкусовым рецепторам моего родного языка, испанского. Это потребовало от меня отказаться от непереводимых значений нарративной терапии на английском языке, которым они по праву принадлежали.
Начиная все сначала: Справедливость языка
Начиная все сначала, мне пришлось столкнуться с неизбежной задачей, которую Дэвид Эпстон назвал в одном из наших разговоров «переосмыслением нарративной терапии». Это был один из немногих разговоров с Дэвидом лично, а не по электронной почте. Это было в 2013 году, когда я приехала в его родной город Окленд, чтобы навестить его и познакомиться с его женой Энн. Мы заранее договорились выделить день во время моего визита, чтобы поработать в его офисе над написанием проекта моего перевода нарративной терапии. Дэвид ясно выразился. Переосмысление нарративной терапии на моем колумбийском языке отдает должное его работе и работе Майкла Уайта. Переосмыслив нарративную терапию, как сказал бы Гарасиа Маркес, я не буду продолжать идти через чужие сны, в данном случае Эпстона и Уайта, но через свои собственные.
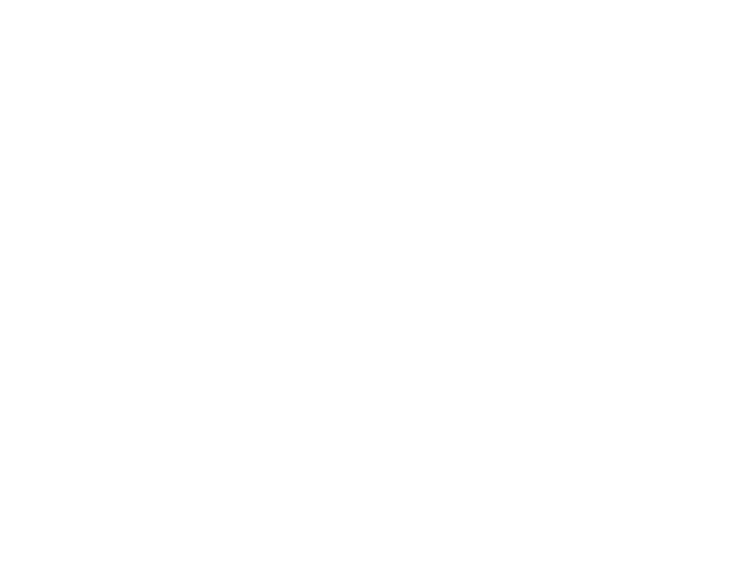
Дэвид Эпстон
Неизбежная задача переосмысления нарративной терапии на моем колумбийском языке была связана с тем, что нарративная терапия появилась на испанском языке так недавно, что не было никаких имен, чтобы назвать ее, не говоря уже о том, чтобы сделать ее видимой и доступной. Она не могла стоять на своих собственных ногах, поэтому я могла с ней играть. Я могла отслеживать ее только глазами и не могла услышать щелчки ее открытий на испанском языке, потому что они были узнаваемы для меня только на английском. Итак, я оказалась перед этической дилеммой. Это было сделано для того, чтобы отдать должное моему родному языку, переосмыслив, а значит, переделав значение моего родного языка вместо того, чтобы всегда переводить слова Эпстона и Уайта на мой испанский, чтобы точно сопоставить их во имя эпистемологического, теоретического и лингвистического послушания. Согласившись с Гарасиа Маркесом (1982) в том, что интерпретация наших реалий с помощью методов, которые не являются нашими собственными, только делает нас более неизвестными, менее свободными и более одинокими.
Я чувствовала настоятельную необходимость переосмыслить мою колумбийскую нарративную терапию из озорного неповиновения. Только тогда я могла бы принять легитимность моего испанского в моей практике нарративной терапии, иначе я не мог принять легитимность самой себя. «Я - мой язык», - как хорошо выразилась чикана Глория Анзалдуа (1989). Она написала: «До тех пор, пока я не буду вольна писать на двух языках и менять коды без необходимости всегда переводить, пока мне придется говорить по-английски или по-испански, когда я предпочитаю говорить на спанглише, и пока мне придется приспосабливаться к носителям английского языка, а не им ко мне, мой язык будет незаконным. Меня больше не заставят стыдиться своего существования. У меня будет свой голос: индийский, испанский, белый. У меня будет мой змеиный язык - мой женский голос, мой сексуальный голос, голос моего поэта. Тогда я преодолею традицию молчания». (стр.81)
Поэтому в духе языковой справедливости, чтобы преодолеть традицию молчания и послушания моего родного языка, с одной стороны, я поставил перед собой требование заниматься поиском поиском испанской лексики со скрупулезным мастерством хирурга, чтобы прорезать тело слов. А с другой стороны, я чувствовала, что должна задействовать воображение с чувствительностью поэта, жаждущего раздеться, соблазняемого безумным желанием теми восхитительными словами, которые заставят вас лизнуть пальцы, демонстрируя их самые желанные качества, отчаянно надеясь быть включенным в стихотворения поэтов.
Однако вы должны знать, что я мошенница. Без всякого сомнения я не обладаю ни скрупулезными навыками хирурга, ни чуткостью поэта. Но, не стесняясь, я должна был продолжить, зная, что я обманываю. Мне пришлось бы это сделать, если бы я сохраняла свое стремление найти подходящих кандидатов для словарей, которые отражали бы австралийскую нарративную терапию Эпстона и Уайта во время прогулки в моих собственных снах. Я хотел запечатлеть их трансгрессивные, мягко радикальные, морально справедливые, общинные, игривые, творческие и авантюрные практики, но теперь с колумбийским вкусом, с ароматом кофе моей родины. Требование этой задачи побудило меня к тщательному поиску слов, так что мне приходилось полагаться на свои фальшивые навыки, чтобы выбирать слова, полные sabiduria (мудрости по-испански) или wisdom (мудрости по-английски). Это был единственный способ выяснить, как выполнить свою задачу - заново начать создавать нарративную терапию на испанском языке. И, хотя я и мошенница, уверяю вас, что я не лгу, когда говорю, что мне потребовалось немало времени, чтобы разобраться; фактически несколько лет. Я стремилась написать новую версию моей колумбийской нарративной терапии, и для меня было очень важно, чтобы она содержала в себе средства, позволяющие отказаться от притворства привилегированного профессионального класса, который возьмет на себя монопольные права Колумбии на него. Ведь он опасно и высокомерно универсален, а значит, недоступен для дальнейших переосмыслений.
Хотя идея переосмысления нарративной терапии на моем колумбийском языке поначалу была пугающей, оказалось, что все оказалось наоборот. Это было достойно моего родного языка - испанского, который в различных контекстах низводится и незаконно выпроваживается в угол, чтобы заткнуться и окраситься монополией английского языка. Это был творческий труд, полный интриг, тайн и волнений. Мое воображение начало уклоняться от этой задачи с моим обязательством участвовать в воспроизведении характера моих колумбийских повествовательных практик как подвижного, необузданного, откровенного, откровенного и доступного. Я также надеялась, что он может быть достаточно открытым для многих переосмыслений другими людьми, которые сочтут меня такой же непереводимой, какими я нашла Эпстона и Уайта.
Что сделало этот творческий труд таким восхитительным, так это компания латиноамериканских коллег, с которыми я могла играть и совместно воображать. Среди них Каролина Летелье, Латорре Хентосо и Марсела Эстрада Вега из Пранаса в Чили; Мария Анжела Тейшейра из Бразилии; Альфонсо Диас и Марта Кампильо из Мексики и Анджела Мария Эстрада из Колумбии. Это ни в коем случае не было единичным мероприятием. Но самым важным соучастником этой задачи, пробудившим во мне энтузиазм и внесшим значительный вклад в поддержание духа моего промежуточного послания, был, без сомнения, Дэвид Эпстон. Я не могла предположить этого еще 1 сентября 2006 года, когда отправил ему первое из тысяч последовавших писем. Он был соучастником моего послания на каждом этапе пути. Хотя он, конечно, ни колумбиец или качако, и ни испаноговорящий, его очевидная связь создателя с нарративной терапией, сделала его сторонником моей работы по переосмыслению подхода. Неутолимая жажда Давида к противоречащим и спорным идеям; его щедрость, когда он наставлял меня, как он делал со многими другими; его невероятно быстрые пальцы, когда он ежедневно набирает множество электронных писем множеству людей по всему миру из своего офиса в Окленде - так быстры его пальцы, что кажется, соревнуются с ногами ямайца Усейна Болта, самого быстрого человека в мире; и его вопросы, способные вызвать самое длинное эхо, так что требовалось дни или недели, даже годы, чтобы оно успокоилось в моем мысленном ухе, сделали его подходящим для этой задачи. Как сказал бы Гарсиа Маркес, вопросы Дэвида пробудили в моей памяти целый спящий мир, чтобы рассказать его, иначе бы он был оставлен в забытии; и обширный и увлекательный репертуар Дэвида о радикальных латиноамериканских писателях, шире, чем на эту колумбийскую тему, также сделали его чрезвычайно отрадным сторонником в этой задаче переосмысления.
Я чувствовала настоятельную необходимость переосмыслить мою колумбийскую нарративную терапию из озорного неповиновения. Только тогда я могла бы принять легитимность моего испанского в моей практике нарративной терапии, иначе я не мог принять легитимность самой себя. «Я - мой язык», - как хорошо выразилась чикана Глория Анзалдуа (1989). Она написала: «До тех пор, пока я не буду вольна писать на двух языках и менять коды без необходимости всегда переводить, пока мне придется говорить по-английски или по-испански, когда я предпочитаю говорить на спанглише, и пока мне придется приспосабливаться к носителям английского языка, а не им ко мне, мой язык будет незаконным. Меня больше не заставят стыдиться своего существования. У меня будет свой голос: индийский, испанский, белый. У меня будет мой змеиный язык - мой женский голос, мой сексуальный голос, голос моего поэта. Тогда я преодолею традицию молчания». (стр.81)
Поэтому в духе языковой справедливости, чтобы преодолеть традицию молчания и послушания моего родного языка, с одной стороны, я поставил перед собой требование заниматься поиском поиском испанской лексики со скрупулезным мастерством хирурга, чтобы прорезать тело слов. А с другой стороны, я чувствовала, что должна задействовать воображение с чувствительностью поэта, жаждущего раздеться, соблазняемого безумным желанием теми восхитительными словами, которые заставят вас лизнуть пальцы, демонстрируя их самые желанные качества, отчаянно надеясь быть включенным в стихотворения поэтов.
Однако вы должны знать, что я мошенница. Без всякого сомнения я не обладаю ни скрупулезными навыками хирурга, ни чуткостью поэта. Но, не стесняясь, я должна был продолжить, зная, что я обманываю. Мне пришлось бы это сделать, если бы я сохраняла свое стремление найти подходящих кандидатов для словарей, которые отражали бы австралийскую нарративную терапию Эпстона и Уайта во время прогулки в моих собственных снах. Я хотел запечатлеть их трансгрессивные, мягко радикальные, морально справедливые, общинные, игривые, творческие и авантюрные практики, но теперь с колумбийским вкусом, с ароматом кофе моей родины. Требование этой задачи побудило меня к тщательному поиску слов, так что мне приходилось полагаться на свои фальшивые навыки, чтобы выбирать слова, полные sabiduria (мудрости по-испански) или wisdom (мудрости по-английски). Это был единственный способ выяснить, как выполнить свою задачу - заново начать создавать нарративную терапию на испанском языке. И, хотя я и мошенница, уверяю вас, что я не лгу, когда говорю, что мне потребовалось немало времени, чтобы разобраться; фактически несколько лет. Я стремилась написать новую версию моей колумбийской нарративной терапии, и для меня было очень важно, чтобы она содержала в себе средства, позволяющие отказаться от притворства привилегированного профессионального класса, который возьмет на себя монопольные права Колумбии на него. Ведь он опасно и высокомерно универсален, а значит, недоступен для дальнейших переосмыслений.
Хотя идея переосмысления нарративной терапии на моем колумбийском языке поначалу была пугающей, оказалось, что все оказалось наоборот. Это было достойно моего родного языка - испанского, который в различных контекстах низводится и незаконно выпроваживается в угол, чтобы заткнуться и окраситься монополией английского языка. Это был творческий труд, полный интриг, тайн и волнений. Мое воображение начало уклоняться от этой задачи с моим обязательством участвовать в воспроизведении характера моих колумбийских повествовательных практик как подвижного, необузданного, откровенного, откровенного и доступного. Я также надеялась, что он может быть достаточно открытым для многих переосмыслений другими людьми, которые сочтут меня такой же непереводимой, какими я нашла Эпстона и Уайта.
Что сделало этот творческий труд таким восхитительным, так это компания латиноамериканских коллег, с которыми я могла играть и совместно воображать. Среди них Каролина Летелье, Латорре Хентосо и Марсела Эстрада Вега из Пранаса в Чили; Мария Анжела Тейшейра из Бразилии; Альфонсо Диас и Марта Кампильо из Мексики и Анджела Мария Эстрада из Колумбии. Это ни в коем случае не было единичным мероприятием. Но самым важным соучастником этой задачи, пробудившим во мне энтузиазм и внесшим значительный вклад в поддержание духа моего промежуточного послания, был, без сомнения, Дэвид Эпстон. Я не могла предположить этого еще 1 сентября 2006 года, когда отправил ему первое из тысяч последовавших писем. Он был соучастником моего послания на каждом этапе пути. Хотя он, конечно, ни колумбиец или качако, и ни испаноговорящий, его очевидная связь создателя с нарративной терапией, сделала его сторонником моей работы по переосмыслению подхода. Неутолимая жажда Давида к противоречащим и спорным идеям; его щедрость, когда он наставлял меня, как он делал со многими другими; его невероятно быстрые пальцы, когда он ежедневно набирает множество электронных писем множеству людей по всему миру из своего офиса в Окленде - так быстры его пальцы, что кажется, соревнуются с ногами ямайца Усейна Болта, самого быстрого человека в мире; и его вопросы, способные вызвать самое длинное эхо, так что требовалось дни или недели, даже годы, чтобы оно успокоилось в моем мысленном ухе, сделали его подходящим для этой задачи. Как сказал бы Гарсиа Маркес, вопросы Дэвида пробудили в моей памяти целый спящий мир, чтобы рассказать его, иначе бы он был оставлен в забытии; и обширный и увлекательный репертуар Дэвида о радикальных латиноамериканских писателях, шире, чем на эту колумбийскую тему, также сделали его чрезвычайно отрадным сторонником в этой задаче переосмысления.
Новый взгляд на Макондо
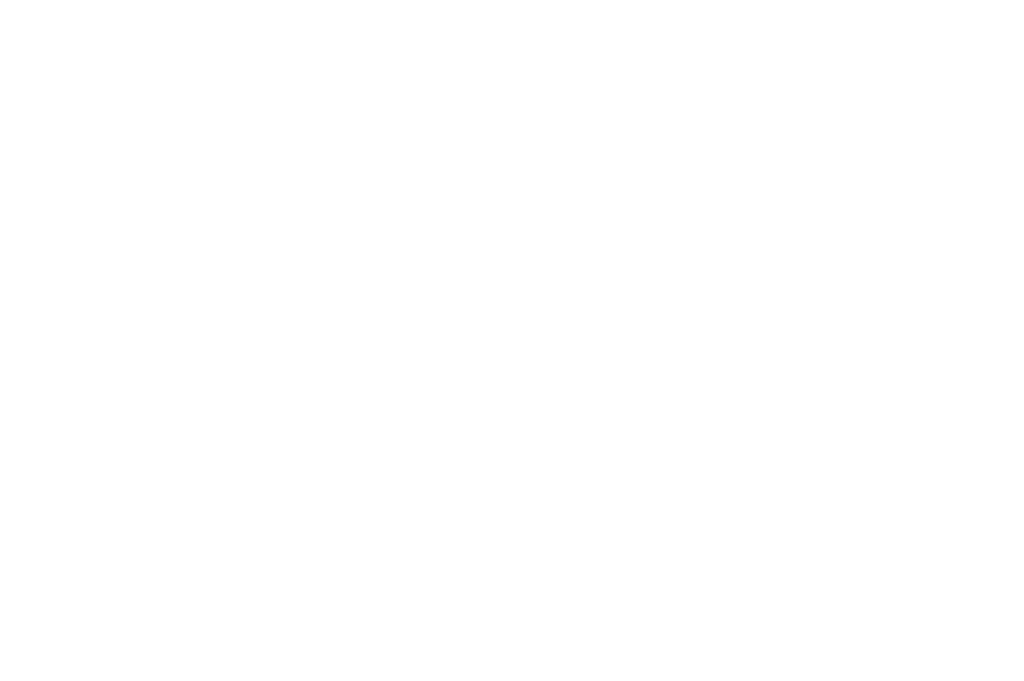
В моей задаче этого переосмысления начало происходить то, о чем я сначала не догадывалась. Выбор колумбийских слов, которые сначала я думала, были просто открытиями, привел меня в обычный, скромный, но очаровательный городок, где я обнаружил, что признаки новой колумбийской нарративной терапии трепещут и живы, но еще не получили своего названия. Я без труда узнала, куда меня привезли, и не должна был удивляться. Я прибыла в глубь моей страны. Это был Макондо, литературный магический реалистический город, выражение грубых реалий Колумбии и Латинской Америки, задокументированное во всей своей поэзии в произведении Гарсиа Макеса «Cien Años de Soledad», те «Сто лет одиночества». Этот роман, впервые опубликованный в 1967 году и переведенный на 37 языков, был продан тиражом более 30 миллионов экземпляров и считается одним из самых выдающихся литературных произведений за последние 25 лет. В столетнем одиночестве Макондо Гарасиа Маркес осуждает одиночество, которым наши латиноамериканские страны были ограничены более 100 лет в результате опасной и разрушающей природу власти, эгоизма и индивидуализма с колониальных времен, изображенных в семья Буэндиа. Он предлагает солидарность и любовь как средство преодоления латиноамериканской изоляции, в противном случае она приведет к самоуничтожению.
Макондо находится на краю дразнящего магреалистического образа моей колумбийской культуры, к чему я пришла на опыте - vivenciar (опыт по-испански), или experience (опыт по-английски).
Этот опыт был очень похож на то, как я ощущала:
Я оказалась перед своей задачей переделать повествование на моем колумбийском языке как свидетель двух сфер - магического и реального - в промежуточном пространстве, которое не принадлежит ни одному, и в котором жизнь похожа на сон, но ни в коем случае не сон.
На окраине, в Макондо магического реалиста Гарасии Маркеса, не только ковры, но и люди обладают способностью летать или подниматься в небо, некоторые никогда не возвращаются; призраки охотятся на жителей деревни; и струйки крови поднимаются по лестнице, поворачивают за углы и избегают окрашивания ковров в поисках мамы хозяина крови, чтобы сообщить ей, что ее сын был убит. Среди сельских жителей одни хватаются за жизнь так сильно и крепко, что могут поддерживать свою биологическую жизнь более 145 лет; другие, появляясь на свет мертвыми, беглецы в одиночестве, продолжают жить многие годы, пока сама смерть не решит иначе; а чума бессонницы проходит, стирая память сельских жителей, вынуждая их наклеивать ярлыки на все вокруг и заставляя экстрасенсов предсказывать судьбу не только в будущем, но и в прошлом.
Эти чрезвычайные события не являются зеркалами реальности, которые облечены в символику или метафоры, чтобы скрыть то, что в конечном итоге поддается проверке как истина и реальность. Вместо этого, согласно Гарсии Маркес (García Márquez, 1982), они являются анекдотами абсурдных событий, которые происходят постоянно, рассказывая с кирпичным лицом, создавая жизнь по пути. Эти анекдоты пытаются преодолеть то, что он считал страданием от серьезной проблемы, состоящей в отсутствии у нас обычных средств, с помощью которых мы можем сделать нашу жизнь правдоподобной. Нам остались только современные западные условности, которые могут задокументировать только разумные объективные факты как жизнь. Анекдотические описания в Макондо, напротив, основаны на абсурдности магической реальной реальности реальных людей, вызванных более интересными способами и с интенсивными реверберациями, чтобы дать им вторую жизнь, будучи пойманными в двух противоположных мирах, существующих в повседневной жизни. Эти анекдоты написаны воображением, чтобы обогатить реальность, а не обеднить ее, отвернувшись от нее. Это возможно благодаря качествам придуманного языка, в терминах Рушди (2014), освобождения языка от тюрьмы слов, в которой богобоязненные грамматические условности ограничивают языковые действия только естественными и лишенными воображения способами. Наш язык оказывается в заточении, поэтому мы подчиняемся добровольной цензуре и языковому послушанию, изгоняющим воображение.
Макондо находится на краю дразнящего магреалистического образа моей колумбийской культуры, к чему я пришла на опыте - vivenciar (опыт по-испански), или experience (опыт по-английски).
Этот опыт был очень похож на то, как я ощущала:
- Вкус кинзы в моем супе ajiaco;
- Звуки музыки vallenato Barranquillero у пляжа;
- Аромат завариваемого колумбийского кофе - лучший в мире.
- Звуки возбужденных колумбийских болельщиков на футбольном матче, от которых волосы дыбом;
- И ловкость замысловатых и красочных ремешков – изделий женских ремесел коренных народов, которые красиво украшают мои запястья рассказами о борьбе и силе, которые живут в них.
Я оказалась перед своей задачей переделать повествование на моем колумбийском языке как свидетель двух сфер - магического и реального - в промежуточном пространстве, которое не принадлежит ни одному, и в котором жизнь похожа на сон, но ни в коем случае не сон.
На окраине, в Макондо магического реалиста Гарасии Маркеса, не только ковры, но и люди обладают способностью летать или подниматься в небо, некоторые никогда не возвращаются; призраки охотятся на жителей деревни; и струйки крови поднимаются по лестнице, поворачивают за углы и избегают окрашивания ковров в поисках мамы хозяина крови, чтобы сообщить ей, что ее сын был убит. Среди сельских жителей одни хватаются за жизнь так сильно и крепко, что могут поддерживать свою биологическую жизнь более 145 лет; другие, появляясь на свет мертвыми, беглецы в одиночестве, продолжают жить многие годы, пока сама смерть не решит иначе; а чума бессонницы проходит, стирая память сельских жителей, вынуждая их наклеивать ярлыки на все вокруг и заставляя экстрасенсов предсказывать судьбу не только в будущем, но и в прошлом.
Эти чрезвычайные события не являются зеркалами реальности, которые облечены в символику или метафоры, чтобы скрыть то, что в конечном итоге поддается проверке как истина и реальность. Вместо этого, согласно Гарсии Маркес (García Márquez, 1982), они являются анекдотами абсурдных событий, которые происходят постоянно, рассказывая с кирпичным лицом, создавая жизнь по пути. Эти анекдоты пытаются преодолеть то, что он считал страданием от серьезной проблемы, состоящей в отсутствии у нас обычных средств, с помощью которых мы можем сделать нашу жизнь правдоподобной. Нам остались только современные западные условности, которые могут задокументировать только разумные объективные факты как жизнь. Анекдотические описания в Макондо, напротив, основаны на абсурдности магической реальной реальности реальных людей, вызванных более интересными способами и с интенсивными реверберациями, чтобы дать им вторую жизнь, будучи пойманными в двух противоположных мирах, существующих в повседневной жизни. Эти анекдоты написаны воображением, чтобы обогатить реальность, а не обеднить ее, отвернувшись от нее. Это возможно благодаря качествам придуманного языка, в терминах Рушди (2014), освобождения языка от тюрьмы слов, в которой богобоязненные грамматические условности ограничивают языковые действия только естественными и лишенными воображения способами. Наш язык оказывается в заточении, поэтому мы подчиняемся добровольной цензуре и языковому послушанию, изгоняющим воображение.
Магический реализм на службе терапевтических бесед
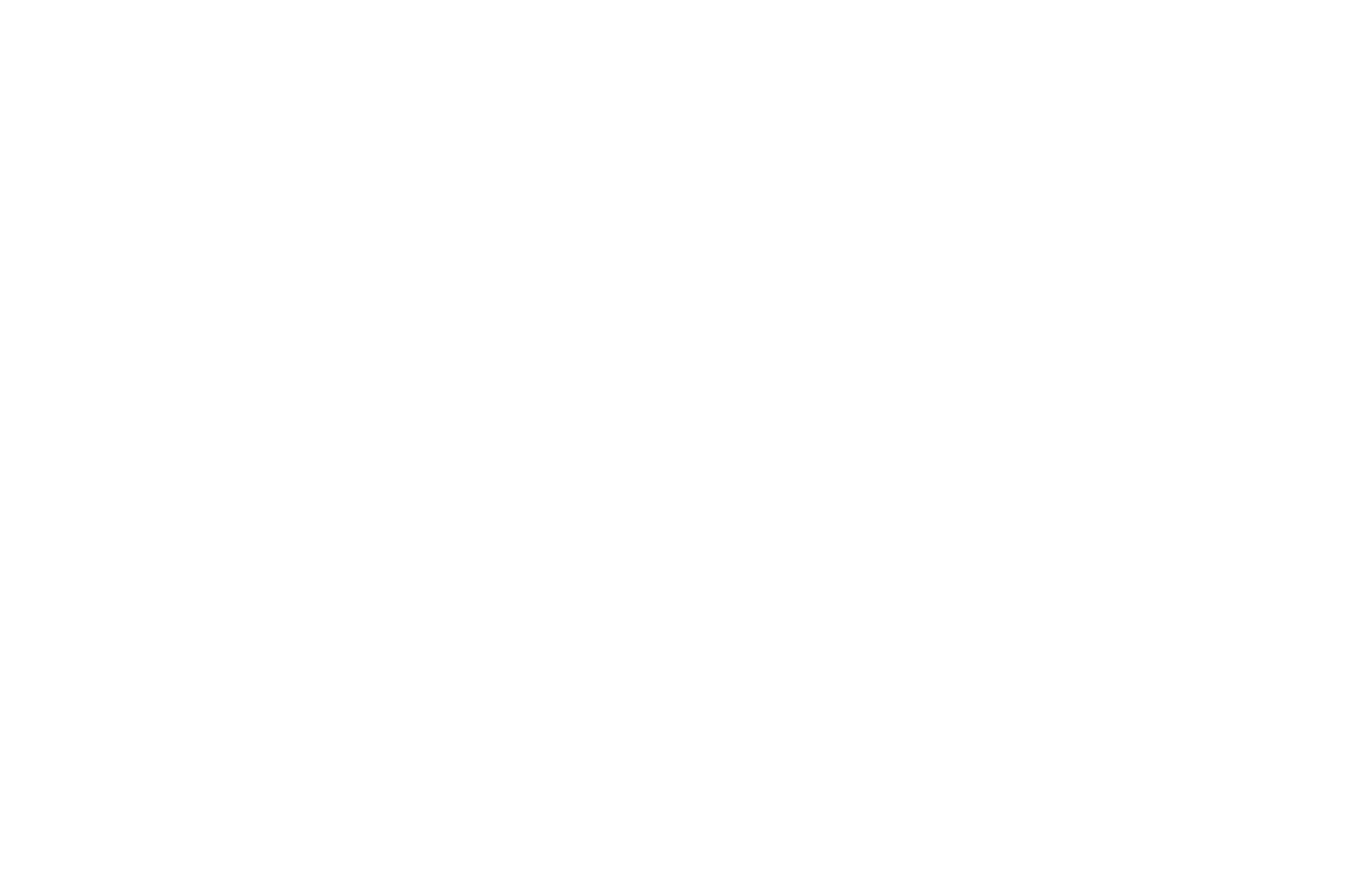
Из анекдотического «Макондо» Гарасиа Маркеса я научился вызывать в своих нарративных беседах магические события, которые хватают реальность за руку, прыгая бок о бок, так близко, словно близнецы, которых больше не могут отличить одного от другого на входе в невероятные миры, которые раньше были немыслимы. С точки зрения магического реализма в некоторых моих терапевтических беседах люди напоминали мне, и я научился верить, что их сердца, тела и дух обладают способностью говорить за себя, и им больше не нужно ждать чьего-то разрешения. Теперь их можно услышать не только с искренним интересом, но и с интригующей тайной. Лихорадка этих сердец, тел и душ, отчаянно жаждущих быть услышанными так долго, теперь может быть уверена, что их время пришло, и их место здесь.
Из такого воображаемого места, как Макондо, в нарративных терапевтических беседах волшебство отказывается полностью ассимилироваться с реализмом. Последний сопротивляется волшебству так же яростно, как собака грызет кость, и никакими средствами невозможно заставить его отказаться от него. То, что в наше время можно было бы назвать разновидностью безумия³, на самом деле является предпочтитаемым состоянием жизни в Макондо; безумие - это стремление к жизни, поскольку оно нарушает рациональные и современные представления о том, что считается нормальным. Эти безумные или нетрадиционные методы магического реализма вполне нормальны. Я узнал об этом много лет назад от мудрого колумбийского уличного художника, который запечатлел пронзительное послание в красочном граффити, его невозможно пропустить на фасаде дома одной из улиц в Боготе в Колумбии. Эта стена была прямо перед одной из психиатрических больниц Боготы. В послании говорилось что-то вроде: безумие спасет всех нас. Сказочный, трансгрессивный характер Макондо предлагает нарративной практике возможности для бесед, которые несут в себе подрывные постколониальные фантастические лингвистические приемы. Они приводят к демонтажу культурных структур, которые санкционируют все, что не подчиняется правящему классу западных идей, ведь только они и считаются реальными и нормальными, научно-доказанными дискурсами.
Мне повезло наткнуться на Макондо во время переосмысления нарративной терапии на моем колумбийском языке, и это привело меня к новому дискурсивному пространству магического реализма для терапевтических бесед. Но я не была первой, кто открыл его литературные, преодолевающие обыденные установки и нормы и побуждающие к переосмыслению средства для терапевтических целей. Не к моему удивлению и, возможно, не к вашему, Дэвид Эпстон прибыл в Макондо задолго до меня, но, что интересно, он держал свое открытие в секрете. Не так давно он сказал мне, что всегда считал, что нарративная терапия имеет замечательное сходство с магическим реализмом не только как жанр сам по себе, но и как предпочитаемый стиль оппозиционного нарратива от тех, кто маргинализован. Он так долго не осмеливался сказать это вслух, пока не встретил колумбийку, которая сказала то же самое. Только тогда он почувствовал себя достаточно уверенно. По его мнению, если бы я сказал это как колумбийка, то он тоже мог бы сказать это вслух. В противном случае он боялся, что люди подумают, что он просто претенциозен. Наряду с Эпстон, Джейн Спиди (2011), нарративный терапевт и профессор консультирования в Бристольском университете в Великобритании, пришла к пониманию сопоставления магического реализма с нарративной терапией, утверждая, что, как она написала в своей статье под названием «Пути магического реализма в и под психотерапевтическим воображаемым»: «точно так же, как маргинальные писатели произвели диверсию, вписав себя в разные пространства жизни, так же и люди, социально и психологически маргинализованные, нашли творческие пути, огибая препятствия жизни» (стр. 22).
Приписывание литературных меняющих смысл магреалистических свойств нарративной практике заканчивается на моем колумбийском варианте. Когда я возвращаюсь к английским значениям, которые оставила позади, Эпстон, Уайт, Фридман, Комбс, Мэдиган, Денборо, Рассел, Хедтке, Нилунд и другие ученые в области нарративной терапии работают, захватив мой интерес в другом виде. Лингвистические нюансы их работы всплыли на страницах их статей. Я ясно видела, как язык бегает по улицам терапевтического разговора, нюхает каждый запах, который привлечет их внимание, свободно блуждает, как Pedro por su casa (по-испански, как будто у себя дома), улавливает, уходит и придумывает правдивые, невероятные слова. Я более точно определила необычное использование языка, обычно принятого в их работе, и их довольно серьезную игривость. Это выглядело, как если бы они взяли для себя магический реализм Макондо самостоятельно и в своих собственных терминах. Например, здесь я имею в виду беседу Уайта (White, 1986) в начале 80-х, в которой, как он писал, казалось, что вещи живут своей собственной жизнью. В одном из его самых всемирно известных разговоров персонаж, названный «snooky poo» (коварная какашка по-английски), как коварное существо появляется в жизни вопреки воле молодых людей, беря на себя ответственность за ситуации энкопреза, чтобы добиться своего. В более позднем разговоре между Уайтом (2007) и маленьким мальчиком Джеффри, у персонажа СДВГ оказывается брат-близнец, которого Уайт лично встречал ранее; этот СДВГ обладает способностью обмануть, разбиться и притвориться лошадью, опрокидывая вещи повсюду. Я также вспоминаю разговоры Эпстона с Джермейном, молодым человеком из Анн-Арбора, штат Мичиган, в которых Астма имеет такой характер, что способна быстро напасть на Джермейна, пуская пыль ему в глаза; или его разговоры о переливании храбрости между матерью и дочерью. Среди многих других ярких примеров - разговоры Майкла Уайта (1988), Лоррейн Хетдке и Джона Уинслейда (2004), в которых они снова здороваются с людьми после их смерти. Беседы, в которых СДВГ, какашки, астма и мертвые люди estan vivitos y coleando (находятся в стране живых по-испански) или are in the land of the living (находятся в стране живых по-английски), вполне могут взорвать чей-то разум, особенно если последние отказываются задействовать свое воображение. Я бы продолжила, говоря, что с точки зрения современных, научных, реалистических, жестких позитивистских перспектив, которые отменяют все на своем пути, что не подчиняется их лишенным воображения логическим требованиям, такие беседы нарративной терапии могут быть рассмотрены, проще говоря, как абсурдные и возмутительные. Но, с точки зрения постколониальных, деколониальных, постмодернистских и постструктуралистских взглядов, которые выходят за рамки, это, попросту говоря, магическая реалистическая возмутительность или, даже, безумие, повседневной жизни.
Возмутительность магического реализма передается поэтично, без вопросов, чтобы вдохнуть жизнь в миры, в которых можно говорить невыразимое, найти непостижимое, прикоснуться к неприкосновенному, услышать неслышимое, почувствовать вкус безвкусного и произнести невыразимое. Однако его мотивация выходит за рамки литературности. Это политически и морально. С точки зрения Гарсиа Маркеса (1982), это следует за правом человечества.
Он сказал: «Мы, рассказчики сказок, верящие во все, считаем себя вправе верить, что еще не поздно создать другую утопию; новую и неукротимую утопию жизни, где никто не решает за других, как умереть, где любовь истинна и где возможно счастье и где у рас, проклятых 100-летним одиночеством, наконец-то есть, и навсегда, еще одна, вторая возможность на Земле».
Подобно Эпстону и Спиди, я нашел в магическом реализме утопию второй возможности для человечества на Земле, особенно для тех из нас, кто более 100 лет живет в одиночестве на чужих окраинах, помещенных туда на основании аргументов о цвете нашей кожи, географическом положении, поле, языке, сексуальной ориентации и т.д. Некоторые из нас провели почти всю свою жизнь, укрощая волнующуюся кровь африканцев и аборигенов, бегущую по течению нашей жизни с тем импульсом, с которым разум, логика и объективность монополизировали то, что считается жизнью.
Из такого воображаемого места, как Макондо, в нарративных терапевтических беседах волшебство отказывается полностью ассимилироваться с реализмом. Последний сопротивляется волшебству так же яростно, как собака грызет кость, и никакими средствами невозможно заставить его отказаться от него. То, что в наше время можно было бы назвать разновидностью безумия³, на самом деле является предпочтитаемым состоянием жизни в Макондо; безумие - это стремление к жизни, поскольку оно нарушает рациональные и современные представления о том, что считается нормальным. Эти безумные или нетрадиционные методы магического реализма вполне нормальны. Я узнал об этом много лет назад от мудрого колумбийского уличного художника, который запечатлел пронзительное послание в красочном граффити, его невозможно пропустить на фасаде дома одной из улиц в Боготе в Колумбии. Эта стена была прямо перед одной из психиатрических больниц Боготы. В послании говорилось что-то вроде: безумие спасет всех нас. Сказочный, трансгрессивный характер Макондо предлагает нарративной практике возможности для бесед, которые несут в себе подрывные постколониальные фантастические лингвистические приемы. Они приводят к демонтажу культурных структур, которые санкционируют все, что не подчиняется правящему классу западных идей, ведь только они и считаются реальными и нормальными, научно-доказанными дискурсами.
Мне повезло наткнуться на Макондо во время переосмысления нарративной терапии на моем колумбийском языке, и это привело меня к новому дискурсивному пространству магического реализма для терапевтических бесед. Но я не была первой, кто открыл его литературные, преодолевающие обыденные установки и нормы и побуждающие к переосмыслению средства для терапевтических целей. Не к моему удивлению и, возможно, не к вашему, Дэвид Эпстон прибыл в Макондо задолго до меня, но, что интересно, он держал свое открытие в секрете. Не так давно он сказал мне, что всегда считал, что нарративная терапия имеет замечательное сходство с магическим реализмом не только как жанр сам по себе, но и как предпочитаемый стиль оппозиционного нарратива от тех, кто маргинализован. Он так долго не осмеливался сказать это вслух, пока не встретил колумбийку, которая сказала то же самое. Только тогда он почувствовал себя достаточно уверенно. По его мнению, если бы я сказал это как колумбийка, то он тоже мог бы сказать это вслух. В противном случае он боялся, что люди подумают, что он просто претенциозен. Наряду с Эпстон, Джейн Спиди (2011), нарративный терапевт и профессор консультирования в Бристольском университете в Великобритании, пришла к пониманию сопоставления магического реализма с нарративной терапией, утверждая, что, как она написала в своей статье под названием «Пути магического реализма в и под психотерапевтическим воображаемым»: «точно так же, как маргинальные писатели произвели диверсию, вписав себя в разные пространства жизни, так же и люди, социально и психологически маргинализованные, нашли творческие пути, огибая препятствия жизни» (стр. 22).
Приписывание литературных меняющих смысл магреалистических свойств нарративной практике заканчивается на моем колумбийском варианте. Когда я возвращаюсь к английским значениям, которые оставила позади, Эпстон, Уайт, Фридман, Комбс, Мэдиган, Денборо, Рассел, Хедтке, Нилунд и другие ученые в области нарративной терапии работают, захватив мой интерес в другом виде. Лингвистические нюансы их работы всплыли на страницах их статей. Я ясно видела, как язык бегает по улицам терапевтического разговора, нюхает каждый запах, который привлечет их внимание, свободно блуждает, как Pedro por su casa (по-испански, как будто у себя дома), улавливает, уходит и придумывает правдивые, невероятные слова. Я более точно определила необычное использование языка, обычно принятого в их работе, и их довольно серьезную игривость. Это выглядело, как если бы они взяли для себя магический реализм Макондо самостоятельно и в своих собственных терминах. Например, здесь я имею в виду беседу Уайта (White, 1986) в начале 80-х, в которой, как он писал, казалось, что вещи живут своей собственной жизнью. В одном из его самых всемирно известных разговоров персонаж, названный «snooky poo» (коварная какашка по-английски), как коварное существо появляется в жизни вопреки воле молодых людей, беря на себя ответственность за ситуации энкопреза, чтобы добиться своего. В более позднем разговоре между Уайтом (2007) и маленьким мальчиком Джеффри, у персонажа СДВГ оказывается брат-близнец, которого Уайт лично встречал ранее; этот СДВГ обладает способностью обмануть, разбиться и притвориться лошадью, опрокидывая вещи повсюду. Я также вспоминаю разговоры Эпстона с Джермейном, молодым человеком из Анн-Арбора, штат Мичиган, в которых Астма имеет такой характер, что способна быстро напасть на Джермейна, пуская пыль ему в глаза; или его разговоры о переливании храбрости между матерью и дочерью. Среди многих других ярких примеров - разговоры Майкла Уайта (1988), Лоррейн Хетдке и Джона Уинслейда (2004), в которых они снова здороваются с людьми после их смерти. Беседы, в которых СДВГ, какашки, астма и мертвые люди estan vivitos y coleando (находятся в стране живых по-испански) или are in the land of the living (находятся в стране живых по-английски), вполне могут взорвать чей-то разум, особенно если последние отказываются задействовать свое воображение. Я бы продолжила, говоря, что с точки зрения современных, научных, реалистических, жестких позитивистских перспектив, которые отменяют все на своем пути, что не подчиняется их лишенным воображения логическим требованиям, такие беседы нарративной терапии могут быть рассмотрены, проще говоря, как абсурдные и возмутительные. Но, с точки зрения постколониальных, деколониальных, постмодернистских и постструктуралистских взглядов, которые выходят за рамки, это, попросту говоря, магическая реалистическая возмутительность или, даже, безумие, повседневной жизни.
Возмутительность магического реализма передается поэтично, без вопросов, чтобы вдохнуть жизнь в миры, в которых можно говорить невыразимое, найти непостижимое, прикоснуться к неприкосновенному, услышать неслышимое, почувствовать вкус безвкусного и произнести невыразимое. Однако его мотивация выходит за рамки литературности. Это политически и морально. С точки зрения Гарсиа Маркеса (1982), это следует за правом человечества.
Он сказал: «Мы, рассказчики сказок, верящие во все, считаем себя вправе верить, что еще не поздно создать другую утопию; новую и неукротимую утопию жизни, где никто не решает за других, как умереть, где любовь истинна и где возможно счастье и где у рас, проклятых 100-летним одиночеством, наконец-то есть, и навсегда, еще одна, вторая возможность на Земле».
Подобно Эпстону и Спиди, я нашел в магическом реализме утопию второй возможности для человечества на Земле, особенно для тех из нас, кто более 100 лет живет в одиночестве на чужих окраинах, помещенных туда на основании аргументов о цвете нашей кожи, географическом положении, поле, языке, сексуальной ориентации и т.д. Некоторые из нас провели почти всю свою жизнь, укрощая волнующуюся кровь африканцев и аборигенов, бегущую по течению нашей жизни с тем импульсом, с которым разум, логика и объективность монополизировали то, что считается жизнью.
Активисты Mad Pride вернули себе термин «безумие». Более подробную информацию о богатой истории психического здоровья и перемещениях выживших можно найти на сайте studymore.org.uk/mpu.html
Право человечества на упражнение в воображении
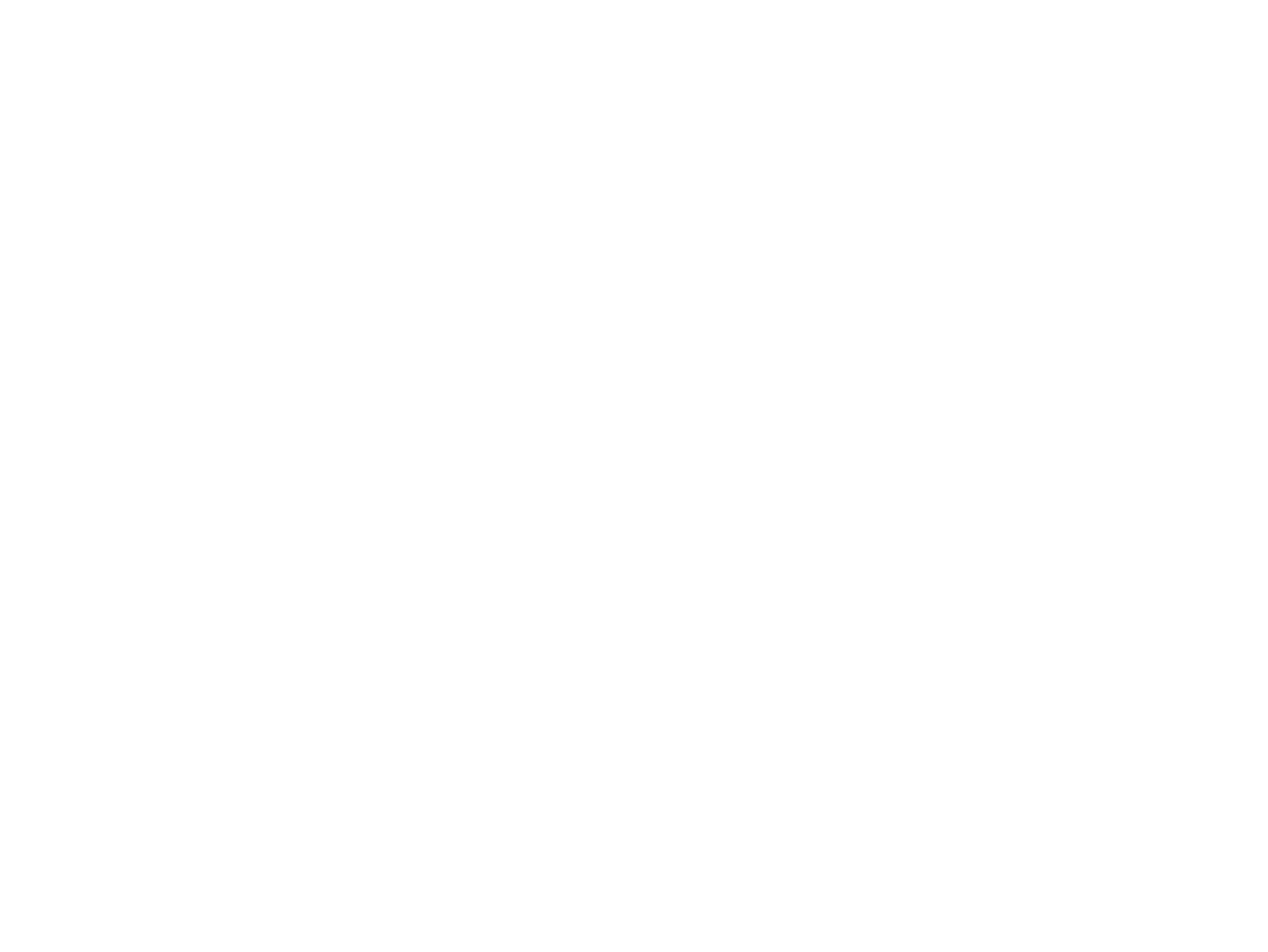
Я считаю, что свободное участие воображения в создании смысла лежит в основе конституции нашего человечества; это центральный момент в работе Дэвида Эпстона, Дэвида Марстена и Лори Маркхэм (2016) в нарративной терапии в стране чудес. Однако, хотя воображение и лежит в основе нашей человечности, наши права на воображение забираются у нас на ранних этапах жизни, считаясь девиантными, наивными, невежественными с помощью широко распространенных аргументов в пользу психического здоровья, прогресса и цивилизации. Рациональность разума с самого начала позволяет нам приводить доводы лишь из мира проверяемых фактов, измеримых и наблюдаемых. Соглашусь со стихотворением Эдуардо Галеано «Празднование брака сердца и разума»:
Как только мы поступаем в школу или церковь, образование разбивает нас на куски. Оно учит нас разлучать душу с телом и разум с сердцем. Рыбаки с колумбийского побережья должны быть назначены знатоками этики и морали, ибо они придумали слово sentipensante - чувственое мышление (feeling-thinking, по-английски), для определения языка, говорящего правду. Язык, говорящий правду, делает воображение более не отклоняющимся от нормы, он делает его sentipensante. (Галеано, 1992, стр.48)
Таким образом, неукротимая утопия, подобная той, о которой говорил Гарасиа Маркес, заставляет меня работать над созданием нарративных терапевтических бесед, в которых творческие усилия в духе магического реализма делают возможной выдумку необычных, обычных, нереальных реальностей, которые могут не поддаваться проверке с помощью западного разума, логики или чувственного восприятия. Такая утопия стремится выйти за рамки современных параметров, которые унижают деятельность воображения, считая ее незаконной, сводя достоинство человечества лишь к способности мыслить и рассуждать. В магическом реализме воображение блуждает в третьем пространстве между магическим и реальным, нарушая любые соглашения о том, что считается только магическим и только реальным.
Неразумные разговоры: развенчание мозга
Осуществляя право человечества на воображение, я приобрела почти одержимость, желая видеть за пределами того, что можно увидеть, за пределами параметров законов природы Вселенной. Я заинтересована в активировании незаконных, местных, мифических, духовных, текучих и поэтических разговоров, в которых человечество переступает через возможности нашего мозга и данные от наших глаз уже не являются привилегированными, настолько чтобы взять на себя ответственность за построение наших знаний о нашей жизни и отношениях. Я стремлюсь превратить разумные разговоры в неразумные, вытесняя разум и логику как единственные законные средства для разговора - тем самым свергая мозг как единственный орган нашего тела, обладающий способностью к познанию. Жизнь перестает быть делом генетики и биологии, только для физиков или химиков, чтобы понять и объяснить. Вместо этого, как это было в некоторых моих терапевтических беседах, жизнь становится более понятной благодаря мудрости опытного повара и изысканным вкусам, ароматам и запахам их рецептов. Жизнь становится достойной жизни только в том случае, если добавить в нее нужные приправы. Чтобы подчеркнуть желаемые вкусы, стоит приправляя «словами, лежащими на их языках», как сказала бы Тирза Пэриш Лефебер (Т. Пэриш ЛеФебер, личное сообщение, 26 сентября 2015 г.): вкусить жизнь в желательном состоянии, делая ее настолько вкусной, чтобы никто не хотел позволить пропасть ей зря.
Кроме того, придерживаясь права человечества на воображение, наше тело может играть более заметную роль в создании жизни в ее полном поэтическом выражении. Я не говорю здесь о биологически функционирующем теле, которое контролируется чувствами и служит хранилищем жидкостей, поддерживающих наше дыхание. Вместо этого я имею в виду воображаемое тело, которое существует воплощенным, поэтическим, образным образом, способное существовать и после своей смерти, со способностью вызывать то, что Дейзи Сея и Кристен Гарза (2016) называют "sentidos imaginarios" - воображаемые чувства. Это вид тела, в культурном, лингвистическом и воображаемом смысле, который позволяет потоку крови путешествовать по всему городу, чтобы предупредить мать, что ее сын убит; астме пустить пыль в глаза; или тот вид воображаемого тела, в котором мальчик может обгонять какашку, чтобы та не отнимала у него жизнь. Это поэтическое выражение воображаемого тела, которое становится критическим в понимании переживаний мира, который они составляют. Такое тело часто фигурирует в терапевтических беседах как источник знания в таких повседневных выражениях как: Мое сердце болит, моя голова вот-вот взорвется, я чувствую тяжесть на плечах, ноги немеют, словно в живот ударили, мой дух должен говорить, мои руки похолодели, или моя грудь переполняется.
Такого рода воплощенное поэтическое существование с точки зрения магического реализма стало занимать более заметное место в некоторых моих терапевтических беседах. С большей лёгкостью на испанском, чем на английском языке, что и неудивительно, когда дело касается воображения людей. Это особенно актуально в разговорах о самоубийстве, когда тело часто находится на переднем крае. Мне интересно знать об участии поэтического тела в принятии решения о прекращении жизни. Я задаю такие вопросы: что ваше тело знало о вас и ваших отношениях, что, хотя ваш разум решил умереть, ваше тело продолжало жить? В тот момент, когда ваш ум начинает брать на себя ответственность за смертельный план, какую часть или части вашего тела вы помните, которые взяли на себя инициативу в осуществлении этих планов, и как это было для них, участвовать в этом плане? Часто люди связывают свое суицидальное решение с мыслями. Их разум выбирает часть тела как своего рода вход в начало конца их жизни. Например, шея выбирается при рассмотрении вопроса о повешении; запястье при порезе или живот при отравлении.
В разговоре на английском и испанском языках с женщиной из Центральной Америки, которую я назову Марианой, чтобы защитить ее права на неприкосновенность частной жизни, я узнала, что ее разум в то время был завербован верой в то, что самое разумное решение для нее – закончить свое существования. Из-за продолжающегося сексуального насилия, которое она пережила ранее в своей жизни. Ее разум полагал, что ее тело выдержало достаточно. Решительно, её разум выбрал желудок в качестве главного исполнителя её ужасных планов по приёму бутылки таблеток. Я посоветовалась с ней, можно ли пригласить ее желудок в беседу, так как мне было любопытно, как ей удалось выжить, несмотря на таблетки. Достаточно интересно, что, когда Мариана говорила о своем животе, ее рука вместо этого направлялась к тому, что на моих уроках анатомии называли горлом. Это подсказало мне, что, хотя разум Марианы нацелился на орган, который формирует нашу пищеварительную систему в верхней части живота, в нашем разговоре мы начали говорить о чем-то другом. Мы начали с предложения ему высказывать свое собственное мнение, задействовать его вкусовые рецепторы и видеть своими собственными глазами. Я упустила возможность подробнее узнать о том, какой вид желудка находится в горле, возможно, потому, что в моей повседневной фантастической жизни это имело настолько большой смысл, что это не было делом, требующим дальнейшего изучения. Я знала, что это тот вид желудка, которому я научилась не в анатомических исследованиях, а в культурологии магического реализма. Так как у меня не было никаких сомнений в том, что уникальный желудок Марианы имеет свой собственный мозг⁴, я хотела услышать его мысли. Согласившись, мы перешли к желудку. Я задавала такие вопросы:
К желудку: «Какова Ваша позиция относительно решения ума предпринять действия против жизни Марианы, полагая, что тело уже пережило достаточно издевательств? Какие переживания жизни Марианы и с кем Вы пришли переваривать, которые поддержали Вашу позицию в отношении жизни, а не смерти?»
Из таких разговоров я узнала, что, когда предоставляется возможность, части наших поэтических, воображаемых тел, возможно, выращивают собственные умы. Они умоляют нас позволить им высказывать свое мнение, поскольку оно часто скрыто в тайне. В этом разговоре желудок Марианы занял позицию в поддержку жизни.
К желудку: «Из того, что вы пережили, живя с Марианой с момента ее рождения, как вы узнали, что жизнь Марианы стоит того, чтобы жить?»
Переварив за свою жизнь множество восхитительных впечатлений или «experiencecias que han sido una delicia», желудок решил, что жизнь Марианы стоит того, чтобы жить.
К желудку: «Какие вкусы проникают в вашу память, которые вызывают восхитительные переживания, которые вы переварили, и делают жизнь Марианы достойной того, чтобы жить - que hacen que la vida de Mariana valga la pena?»
Я узнал о рецептах бабушки Марианы, которые бы «despertar a cualquier muerto de su tumba» (разбудили любого мертвеца из его могилы, по-испански) или would bring any one back from their death (вернули бы с того света, по-английски). Ее бабушка умерла 8 лет назад.
К желудку: «Что было такого восхитительного в «sazón» (вкусах, по-испански) или приправах бабушки Марианы, что «despertar a cualquier muerto de su tumba» приготовило «la vida de Mariana valer la pena» (жизнь Марианы, по-испански)?»
Я узнал, что желудок передал разуму послание в защиту жизни, отвергнув таблетки, а также задействовав средний палец правой руки Марианы, чтобы сделать возможным этот отказ. Более того, это давало уму понять, что, хотя тело многое перенесло, оно также испытало и бабушку любовь, и не было готово всему этому положить конец. Я спросил Мариану об идеях, о которых мы говорили до этого момента. Мариана сказала мне, что она чувствовала, что ее тело все-таки на ее стороне, как союзник.
К Мариане: «Мариана, каково тебе знать, что твой желудок на твоей стороне и что ты был союзником в защиту жизни в критический момент в твоей жизни?
Она сказала мне, что почувствовала утешение.
К Мариане: «Каково было вам поделиться историей любви вашей бабушки, переданной в ее рецептах? Вы разделяете идею бабушкиной любви, которая делает вашу жизнь достойной того, чтобы жить?»
Мариана искренне согласилась и сказала, чтобы запомнить, как важно для нее будет питать свое тело/желудок после того, что он перенес с таблетками и предыдущим насилием. Я узнал о культурных традициях Марианы, когда они делятся едой в сообществе, как о способе поддержки семейных связей со своими близкими. Она вспомнила, что вела записную книжку, libreta, с рецептами своей бабушки. Она планировала готовить и приглашать соседей, друзей и родственников, чтобы они делились с ней, чтили ее бабушку и праздновали ее жизнь и жизнь ее бабушки.
К Мариане: «Мариана, tu abuelita nos esta escuchando - твоя бабушка нас слушает?»
В конце нашего разговора бабушка Марианы дала свое благословение: «Que mi diocito me la proteja, mija».
Кроме того, придерживаясь права человечества на воображение, наше тело может играть более заметную роль в создании жизни в ее полном поэтическом выражении. Я не говорю здесь о биологически функционирующем теле, которое контролируется чувствами и служит хранилищем жидкостей, поддерживающих наше дыхание. Вместо этого я имею в виду воображаемое тело, которое существует воплощенным, поэтическим, образным образом, способное существовать и после своей смерти, со способностью вызывать то, что Дейзи Сея и Кристен Гарза (2016) называют "sentidos imaginarios" - воображаемые чувства. Это вид тела, в культурном, лингвистическом и воображаемом смысле, который позволяет потоку крови путешествовать по всему городу, чтобы предупредить мать, что ее сын убит; астме пустить пыль в глаза; или тот вид воображаемого тела, в котором мальчик может обгонять какашку, чтобы та не отнимала у него жизнь. Это поэтическое выражение воображаемого тела, которое становится критическим в понимании переживаний мира, который они составляют. Такое тело часто фигурирует в терапевтических беседах как источник знания в таких повседневных выражениях как: Мое сердце болит, моя голова вот-вот взорвется, я чувствую тяжесть на плечах, ноги немеют, словно в живот ударили, мой дух должен говорить, мои руки похолодели, или моя грудь переполняется.
Такого рода воплощенное поэтическое существование с точки зрения магического реализма стало занимать более заметное место в некоторых моих терапевтических беседах. С большей лёгкостью на испанском, чем на английском языке, что и неудивительно, когда дело касается воображения людей. Это особенно актуально в разговорах о самоубийстве, когда тело часто находится на переднем крае. Мне интересно знать об участии поэтического тела в принятии решения о прекращении жизни. Я задаю такие вопросы: что ваше тело знало о вас и ваших отношениях, что, хотя ваш разум решил умереть, ваше тело продолжало жить? В тот момент, когда ваш ум начинает брать на себя ответственность за смертельный план, какую часть или части вашего тела вы помните, которые взяли на себя инициативу в осуществлении этих планов, и как это было для них, участвовать в этом плане? Часто люди связывают свое суицидальное решение с мыслями. Их разум выбирает часть тела как своего рода вход в начало конца их жизни. Например, шея выбирается при рассмотрении вопроса о повешении; запястье при порезе или живот при отравлении.
В разговоре на английском и испанском языках с женщиной из Центральной Америки, которую я назову Марианой, чтобы защитить ее права на неприкосновенность частной жизни, я узнала, что ее разум в то время был завербован верой в то, что самое разумное решение для нее – закончить свое существования. Из-за продолжающегося сексуального насилия, которое она пережила ранее в своей жизни. Ее разум полагал, что ее тело выдержало достаточно. Решительно, её разум выбрал желудок в качестве главного исполнителя её ужасных планов по приёму бутылки таблеток. Я посоветовалась с ней, можно ли пригласить ее желудок в беседу, так как мне было любопытно, как ей удалось выжить, несмотря на таблетки. Достаточно интересно, что, когда Мариана говорила о своем животе, ее рука вместо этого направлялась к тому, что на моих уроках анатомии называли горлом. Это подсказало мне, что, хотя разум Марианы нацелился на орган, который формирует нашу пищеварительную систему в верхней части живота, в нашем разговоре мы начали говорить о чем-то другом. Мы начали с предложения ему высказывать свое собственное мнение, задействовать его вкусовые рецепторы и видеть своими собственными глазами. Я упустила возможность подробнее узнать о том, какой вид желудка находится в горле, возможно, потому, что в моей повседневной фантастической жизни это имело настолько большой смысл, что это не было делом, требующим дальнейшего изучения. Я знала, что это тот вид желудка, которому я научилась не в анатомических исследованиях, а в культурологии магического реализма. Так как у меня не было никаких сомнений в том, что уникальный желудок Марианы имеет свой собственный мозг⁴, я хотела услышать его мысли. Согласившись, мы перешли к желудку. Я задавала такие вопросы:
К желудку: «Какова Ваша позиция относительно решения ума предпринять действия против жизни Марианы, полагая, что тело уже пережило достаточно издевательств? Какие переживания жизни Марианы и с кем Вы пришли переваривать, которые поддержали Вашу позицию в отношении жизни, а не смерти?»
Из таких разговоров я узнала, что, когда предоставляется возможность, части наших поэтических, воображаемых тел, возможно, выращивают собственные умы. Они умоляют нас позволить им высказывать свое мнение, поскольку оно часто скрыто в тайне. В этом разговоре желудок Марианы занял позицию в поддержку жизни.
К желудку: «Из того, что вы пережили, живя с Марианой с момента ее рождения, как вы узнали, что жизнь Марианы стоит того, чтобы жить?»
Переварив за свою жизнь множество восхитительных впечатлений или «experiencecias que han sido una delicia», желудок решил, что жизнь Марианы стоит того, чтобы жить.
К желудку: «Какие вкусы проникают в вашу память, которые вызывают восхитительные переживания, которые вы переварили, и делают жизнь Марианы достойной того, чтобы жить - que hacen que la vida de Mariana valga la pena?»
Я узнал о рецептах бабушки Марианы, которые бы «despertar a cualquier muerto de su tumba» (разбудили любого мертвеца из его могилы, по-испански) или would bring any one back from their death (вернули бы с того света, по-английски). Ее бабушка умерла 8 лет назад.
К желудку: «Что было такого восхитительного в «sazón» (вкусах, по-испански) или приправах бабушки Марианы, что «despertar a cualquier muerto de su tumba» приготовило «la vida de Mariana valer la pena» (жизнь Марианы, по-испански)?»
Я узнал, что желудок передал разуму послание в защиту жизни, отвергнув таблетки, а также задействовав средний палец правой руки Марианы, чтобы сделать возможным этот отказ. Более того, это давало уму понять, что, хотя тело многое перенесло, оно также испытало и бабушку любовь, и не было готово всему этому положить конец. Я спросил Мариану об идеях, о которых мы говорили до этого момента. Мариана сказала мне, что она чувствовала, что ее тело все-таки на ее стороне, как союзник.
К Мариане: «Мариана, каково тебе знать, что твой желудок на твоей стороне и что ты был союзником в защиту жизни в критический момент в твоей жизни?
Она сказала мне, что почувствовала утешение.
К Мариане: «Каково было вам поделиться историей любви вашей бабушки, переданной в ее рецептах? Вы разделяете идею бабушкиной любви, которая делает вашу жизнь достойной того, чтобы жить?»
Мариана искренне согласилась и сказала, чтобы запомнить, как важно для нее будет питать свое тело/желудок после того, что он перенес с таблетками и предыдущим насилием. Я узнал о культурных традициях Марианы, когда они делятся едой в сообществе, как о способе поддержки семейных связей со своими близкими. Она вспомнила, что вела записную книжку, libreta, с рецептами своей бабушки. Она планировала готовить и приглашать соседей, друзей и родственников, чтобы они делились с ней, чтили ее бабушку и праздновали ее жизнь и жизнь ее бабушки.
К Мариане: «Мариана, tu abuelita nos esta escuchando - твоя бабушка нас слушает?»
В конце нашего разговора бабушка Марианы дала свое благословение: «Que mi diocito me la proteja, mija».
В этом разговоре я надеялась избежать дуализма разум / тело, столь распространенного в западной культуре, и сделать упор на культурные, языковые и образные дискурсы тела. Хотя для Марианы это имело большой смысл на устном испанском языке, мне труднее передать это на письменном английском.
Заключительный комментарий
Конечно, мое сегодняшнее послание, которое не относится ни к моему испанскому, ни к моему английскому, а является промежуточным, не имеет намерения подчеркнуть, что принятие образной перспективы магического реализма — это вопрос жизни или смерти. Это было бы немного преувеличением, хотя и не совсем для драматического чутья колумбийки. Я намеревалась передать непереводимое сообщение о человеческом значении нарративной терапии через задействование воображения на моем колумбийском испанском языке, потому что нарративную терапию я знала только на моем иммигрантском английском. Поступая таким образом, я могу только надеяться пролить свет на возможности, которые открываются в результате эпистемологического и теоретического неповиновения, когда я иду по собственным мечтам в поисках новых неукротимых утопий. В похожем на сновидения мире я надеюсь, что вы найдете способы начать все сначала, чтобы переосмыслить новые значения нарративной терапии с новыми словарями, культурно согласованными с намерениями языковой справедливости. Я надеюсь, что вы найдете свой путь, может быть, случайно, к вашим собственным версиям Macondo, где вы можете обнаружить, что новый персонаж вашего воображения в нетерпении и с распростертыми объятиями ожидает вас. Продолжая обнимать вас, он шепчет вам на ухо, мягко, но твердо, как жизнь, по словам Тирзы Пэриш ЛеФебер (T. Parish LeFeber, личное сообщение, 26 сентября 2015 г.): «… как чашка горячего шоколада, протягивающая шоколадно-сладкую начинку, начиная с ваших губ, идущих к вашему языку, вниз по вашему пищеводу, останавливаясь на дне живота, чтобы вы могли почувствовать разницу между застывшим снаружи и горячим внутри… ».
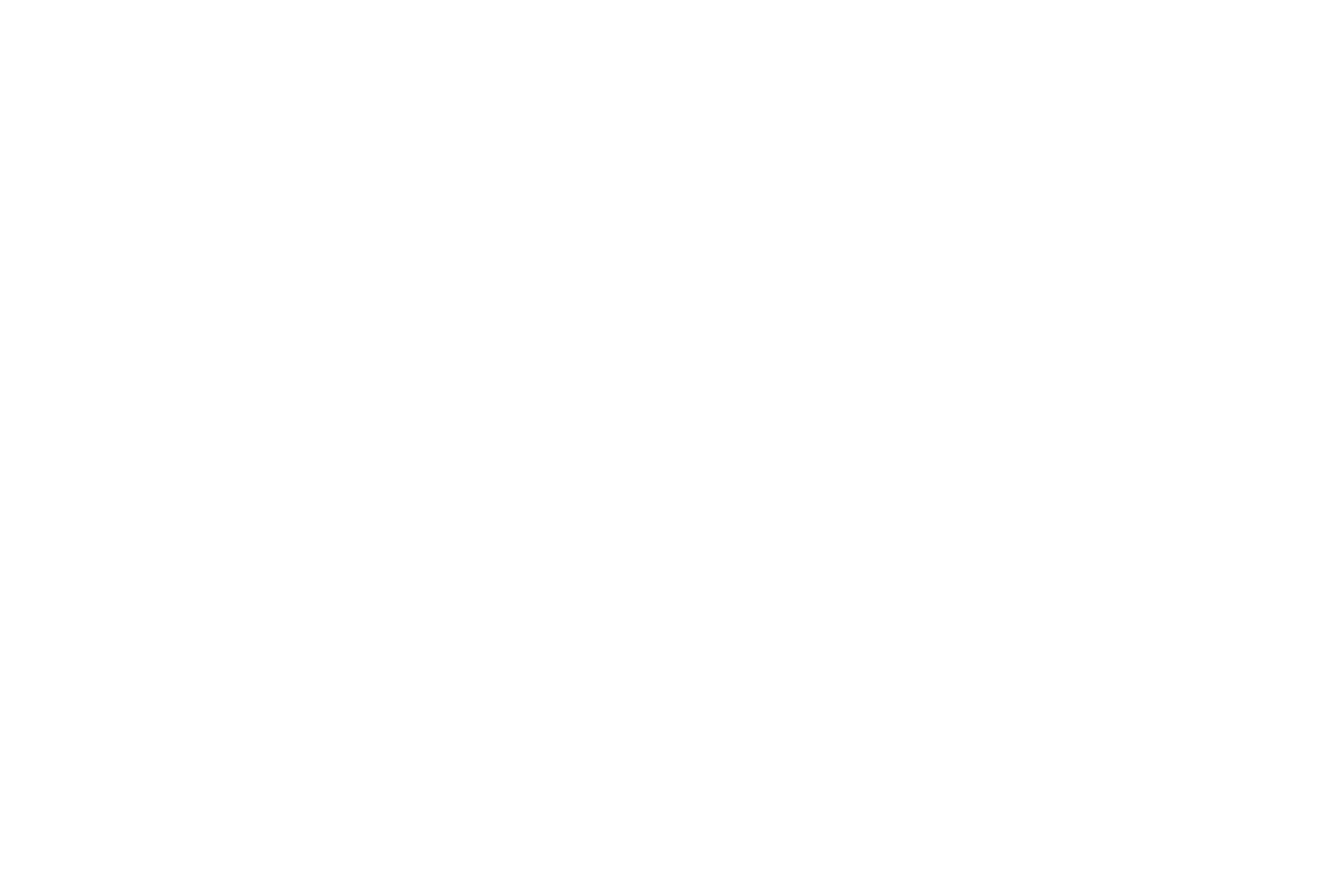
Если понравилась статья, и хочешь поддержать переводчика, жми сюда!

