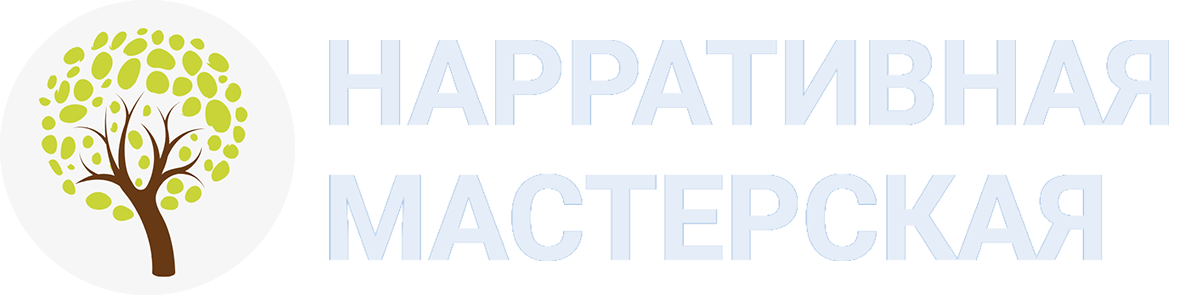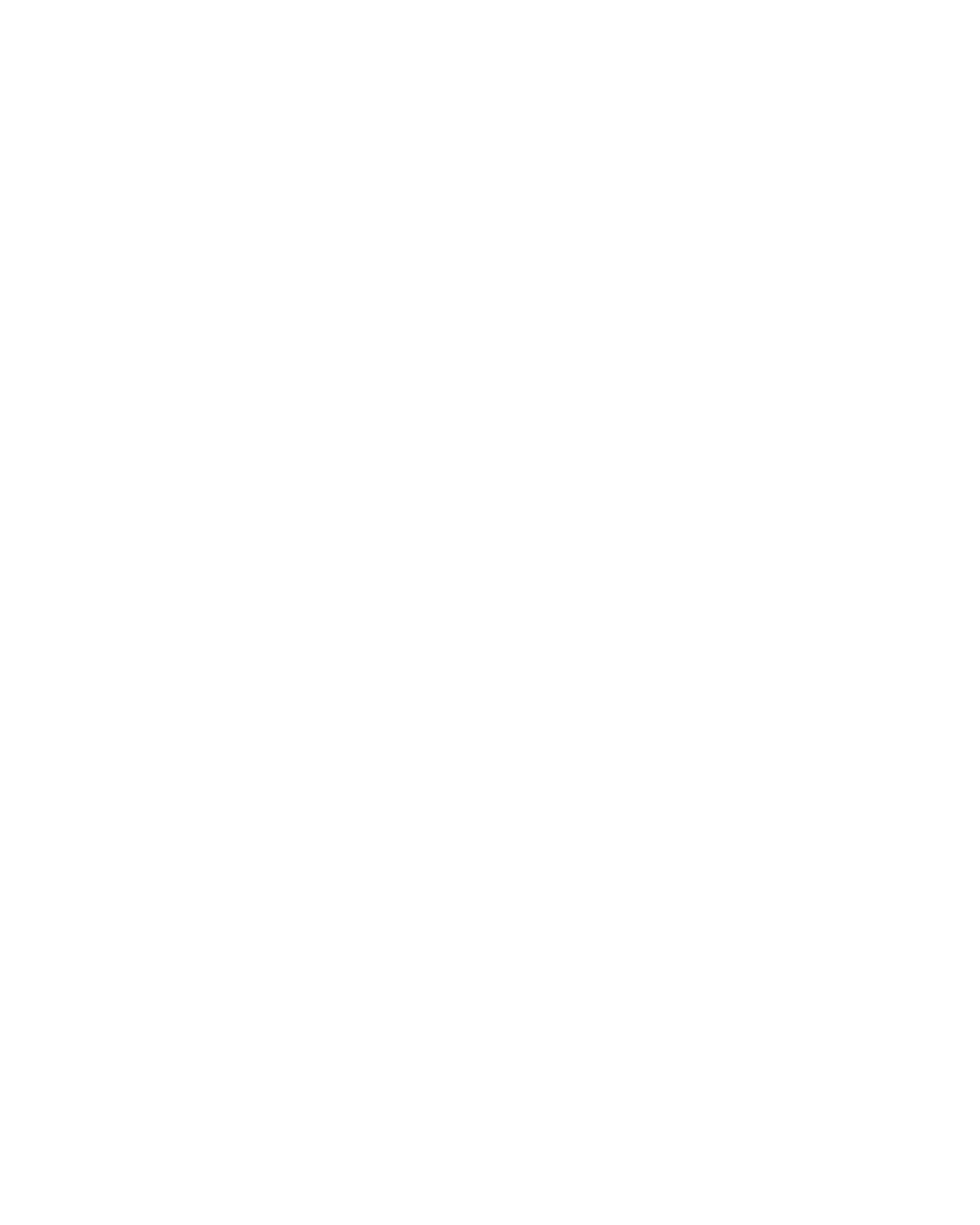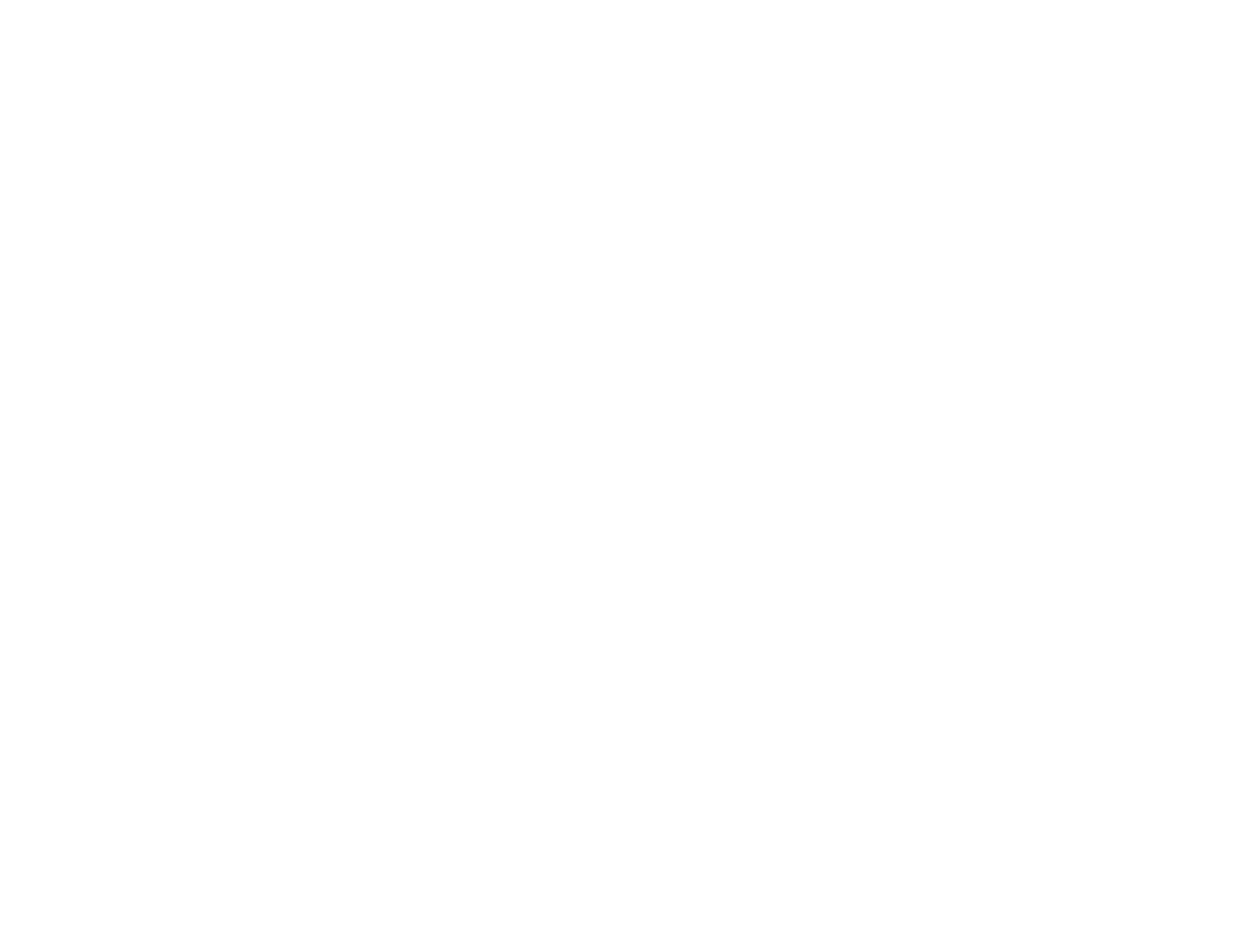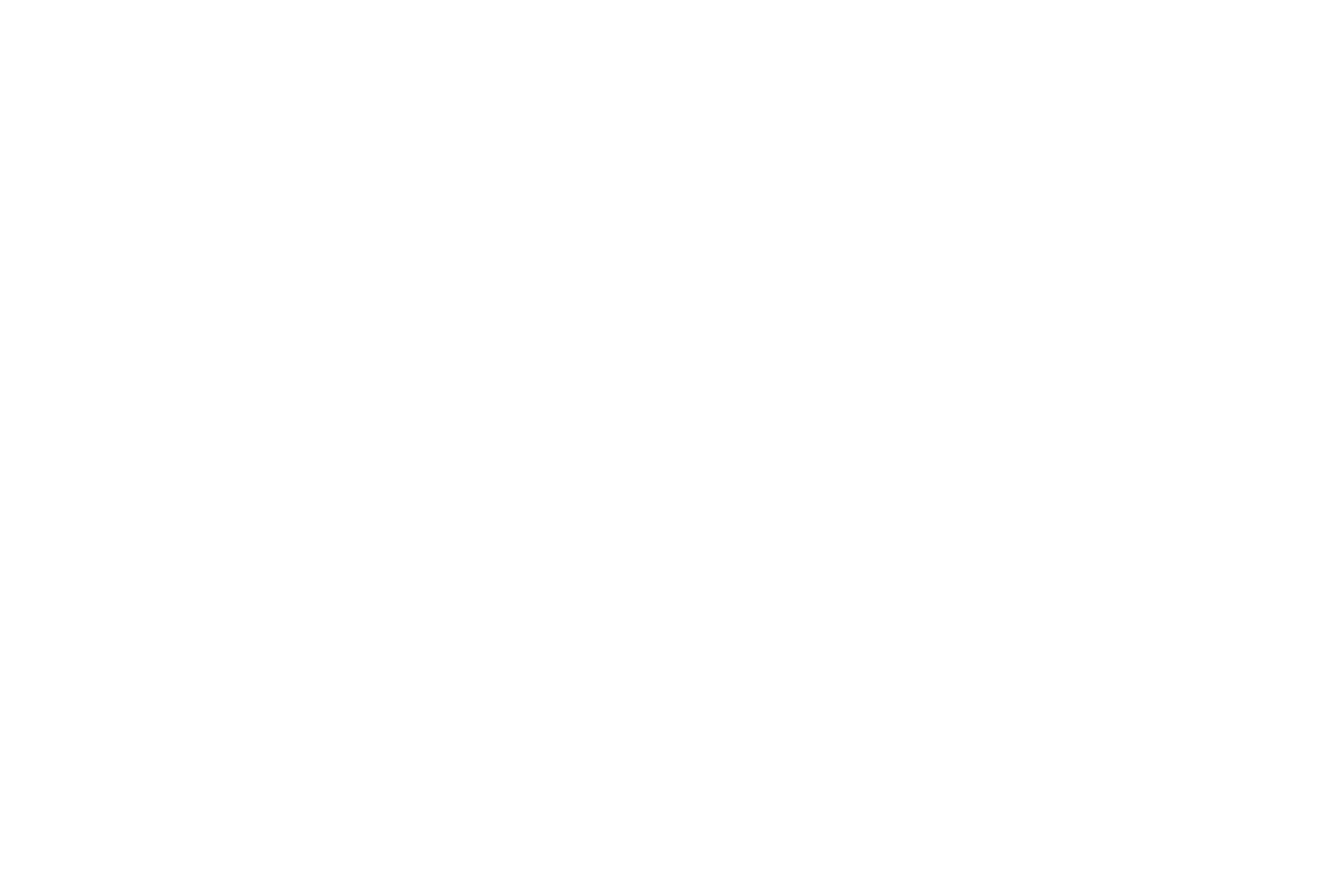Другие файлы cookie можно настроить.
| Даже о самых простых, не стоящих упоминания, вещах вроде чистки зубов или школьных домашек, — которые становились причиной конфликтов и как будто поглощали нашу жизнь. Когда я узнала о нарративном подходе, я подумала, что эта штука может сработать. Не только потому что я работала журналистом и кое-что знала об историях, но и потому что, как выяснилось, что-то из нарративной терапии я уже практиковала. Каждой маме хоть чуть-чуть, но знаком этот подход. Оставалось только его углубить. Спускаясь в своей речи до детского лепета и подхватывая первые слова своего тоддлера, сливая наши «я» в одно «мы», одушевляя игрушки и рассказывая на ночь сказки, мы уже используем нарративный подход. Мамы – это главные люди на Земле, которые говорят на этом «сказочном языке», позволяющем находить решения, укрепляться в своих ощущениях и быть ближе с тем, с кем говоришь. Сегодня в моем доме, где буянит не пошедший из-за простуды в сад сын, на дне кувшина с водой, который обязательно нужно выпить («Любить и поить», — не забываем главную заповедь современных педиатров), поселился джин Антисоплин, и вот уже поток чистой воды рассасывает воображаемое зеленое болото соплей, чтобы носик начал лучше дышать. Мамины уши буквально (то есть – ручками) заворачиваются от детских скандалов в трубочки («Похожи на блинчики с сыром, по-моему… Хотя мне больше нравятся мои уши просто с сережками, а не в трубочку, а тебе как?»). А ребенок, который только что отказывался и пить, и капать капли, сопротивлялся и дулся, уже еле сдерживает прыски смеха и вовлекается в игру. Вам ведь такое знакомо? По сути – это и есть лайтовая версия нарративной практики. Если у вас облака на небе тоже принимают форму ушедших от вас любимых домашних питомцев и у них можно спросить совета, — то вы уже практикуете нарративный подход. Потому что у вас самые подходящие для этого собеседники на свете. Маленькие почемучки. У которых мы можем учиться. |
Вася (заинтересованно и замерев): Как это?
Я: Ну вот же, слышишь? Это что сейчас было?
Вася: Это я пукнул.
Я: Ну я и говорю! Неужели это пришел Пук? Мамочки!
Вася: Ага! Ааапчхиии!
Я: Ой! И Чих тоже здесь!
Вася крайне доволен произведенным эффектом и тем, что он, оказывается, не изводит бесцельно мать, саботируя вставание, а, выходит, участвует в чем-то важном. Он производит Пука и Чиха.
Я: А еще я слышала какое-то рычание, было дело?
Вася подтверждает и рычит.
Я: Вот! И Рык с нами! Что же это вообще происходит!
Вася заливается смехом.
Я: И Смех!
Вася кашляет.
Я: А это кто был? Ну-ка ну-ка?
Вася повторяет.
Я: Да это же дядюшка Кхе-Кхе! Я угадала?
Вася кивает. И дальше таким же образом мы «находим под одеялом» товарищей Ку-ку, Ко-Ко и добавляем по созвучию гражданку Кока-Колу. Я предлагаю Васе пересчитать на пальцах всю пододеяльную наличность.
Я: Василий! Да я смотрю, что у тебя крутая команда подобралась!
Вася ужасно горд, что имеет отношение к созданию целой армии.
Я: И что, Чих, Пук, Рык, Хрюк, Смех, Кхе-Кхе, Ку-ку, Ко-Ко и Кока-Кола пойдут с тобой в сад?
Вася: Конечно!
Я: А воспитательница разрешит?
Вася: Ты же попросишь?
Я: Ну раз это твоя команда, то попрошу. Она тебе нужна, чтобы справляться с тетрадками, да? Они помогут?
Вася кивает.
Я: А как ты думаешь, вдесятером вы справитесь?
Вася: Да! Пошли одеваться!
***
Я расскажу вам историю про рыбу-удильщика.
Мой дочери Варваре 12 лет, и она очень требовательна в плане внимания, которое хочет получить от окружающего мира. Ни один зум в учебном классе в географическом клубе, например, не проходит без того, чтобы она не подсунула в камеру по очереди всех своих питомцев – хамелеона, котенка, кролика, перетягивая одеяло с учительницы на себя. Друзья, бывает, устают от накала страстей в их отношениях. А разговоры родителей неминуемо прерываются посередине внезапным вторжением – «А вот у меня!..» Очевидна лежащая за таким поведением потребность – но неочевидно, как остановить эту лавину. «Простые слова» - не помогали. И вот Варваре снится сон. Который мог бы остаться просто ночным кошмаром. Но с помощью нарративных вопросов перерос в наглядное пособие на тему нарушения чужих границ и способов обхождения со своими потребностями – воспринятый напрямую через чувственную ткань воображения и пережитых во сне эмоций.
Я: А почему ты начинаешь дружить с рыбой-удильщиком?
Варвара: Я хочу спасти оставшихся, чтобы она больше никого не съела. Я приношу ей еду.
Я: То есть ты нас защищаешь.
Варвара: Да, но только в начале. А потом понимаю, что мне на самом деле хочется с ней дружить – потому что мы с ней в чем-то похожи…
Я: В чем, например?
Варвара: Я думаю, она съела папу, потому что была разъяренная и голодная.
Я: Чем она была разъярена?
Варвара: Голодом. Или одиночеством.
Я: То есть то, что она съела папу, было ее способом удовлетворить эту ярость одиночества?
Варварва: Да… И я ее стала успокаивать.
Я: Кажется, эта история про ярость одиночества мне что-то напоминает… Как тебе кажется, есть какая-то параллель между тобой и рыбой-удильщиком в силе вашей потребности и способе ее удовлетворения?
Варвара: Да, мы так хотим общения, что порой можем и съесть…
Я: Ага. А что за намерение тобой двигало, когда ты хотела ее успокоить, задобрить?
Варвара: Сочувствие. Я ее понимаю. И еще я не хотела остаться одной, если она съест всех.
Я: Выходит, чрезмерное удовлетворение своего голода общения может плохо закончится? Если всех съесть, можно остаться одной?
Варвара: Да…
Я: Мне кажется, я слышу здесь какие-то отголоски стиуации, которую ты рассказывала про своих друзей. Что они, бывает, от тебя отворачиваются. И ты хочешь найти новых. Как будто эта дружба с рыбой-удильщиком может пролить на эту ситуацию свет…
Варвара: Наверное, этот сон еще и про то, что мы сами не знаем, где и при каких обстоятельствах можем обрести друзей - все непредсказуемо, друзья могут найтись где угодно, и не стоит переживать, что сейчас я одна. И еще этот сон заставил меня вспомнить, что прошлым летом мы так и не сходили с папой на рыбалку, - не хотелось бы упустить шанс и в этом году, и я теперь понимаю, что не хочу ничего испортить своей назойливостью.
***
Я стала помогать своим детям рассказывать истории об их жизни. Мне нравится цитата из «Диалога» гуру сторителлинга Роберта Макки: «Истории сгущают то, что разжижает жизнь». То есть в «собранном» виде ткань бытия, обычно распадающаяся на разрозненные элементы событий, прорастает смыслом и становится как будто более податливой нашим усилиям что-то изменить или даже просто пережить. Я стала внимательно прислушиваться к деталям, наводняющим речь детей, доращивать их до смысловых единиц, помогать подобрать метафору и протягивать мостик истории – от актуального состояния к предпочитаемому, от проблемной ситуации - к выходу из нее, из травматического опыта – к исцеляющему потоку. Это особое слушание, которое в основе имеет игнорирование автоматизмов – и в речи детей, и в собственных привычных реакциях.
Как правило, сцены неконструктивного взаимодействия, непродуктивные шаблоны поведения оттачивались очень долго и с легкостью воспроизводят сами себя, даже без нашего участия. И поэтому для начала важно отследить работу этого бесперебойного конвейера – мыслей, слов, реакций, чувств. А затем выбрать из него, как мелкой сетью, то ценное, за что мы можем зацепиться – и начать раскручивать новый, уже подходящий нам, маховик смыслов и событий. Как на удочку, мы вытягиваем из бурного моря нашей повседевности, из всей шелухи оброненных слов – проглоченные эмоции, подлинные чувства, ценности, идеи. Руинизируя «замыленную» реальность, мы помогаем нашим маленьким собеседникам достараивать в появившейся тишине и пустоте новую, предпочитаемую, делая бытие из привычного и плоского – объемным и населенным новыми персонажами, с новыми декорациями, тропинками, дверями. Это увлекательная игра.
Васе 6 лет, и, как и многие дети, он тяжело переносил адаптацию к детскому саду. На эту, подорванную разлукой с мамой, почву лег стресс от вызовов, которые его ждали, когда он уже смирился с самим фактом этого ежедневного разлучения, – развивающие занятия в саду, последовавшая тревога и проблемы с самооценкой. В один из вечеров Вася смог рассказать немного больше, чем обычно, об этих переживаниях, и я нашла, “за что зацепиться”. Когда ребенок был раздавлен неудачей, я искала следы его действий в ответ – признаки того, как истово он сопротивлялся провалу.
(Оставляю в скобках мое негодование на социальный контекст).
Я: Расскажи, пожалуйста, а как ты именно ты старался? Как делал свои бусы?
Вася (очень злится): Как-как! Да никак!
Я: Прости, но мне очень любопытно – а чем ты рисовал?
Вася (продолжая злиться): Карандашами! Что тут непонятного!
Я: А с каким нажимом ты рисовал карандашами? Сильно нажимал?
Вася: Ну конечно сильно!
Я (показываю): Вот так? Или даже сильнее?
Вася: Сильнее.
Я: А как водил карандашом? Справа налево или слева направо? Или может еще и вверх вниз тоже?
Вася (смягчаясь и показывая): И так, и так.
Я: И заполнил весь листочек? Большой он был?
Вася: Большой!
Я: А язык высовывал, пока рисовал?
Вася (улыбаясь): Чуть-чуть.
Я: Василий! Так значит ты очень хорошо старался! Раз даже язык от усилий высовывал! И весь большой лист заполнил! И на карандаш сильно нажимал!
Вася (удовлетворенно): Ну да.
Я: Я даже знаешь, что думаю? Я думаю, что ты старался лучше всех в группе! Потому что у всех получились такие бусы, как сказала воспитательница, круглые, а твои бусы никого не слушались и тебе сопротивлялись! Так что тебе было сложнее всех! И ты с этим справился! Вот интересно, что сказала бы Осень, если бы получила в подарок твои особенные бусы? Ты думаешь, ей понравилось бы?
Вася молча сияет в ответ.
Я: И я тебе даже больше скажу! Если бы мне подарили бусы такие, как у всех, это было бы, мне кажется, скучновато. А вот такие бусы, не как у всех, а как ни у кого, - эти наверняка бы понравились Осени! Как ты считаешь?
Вася: Мама, да я теперь вообще ничего не боюсь! Ни тетрадок! Ни рисования! Я теперь супермалыш! У меня есть суперсила!
***
| Нарративный подход не требует специального времени и места, он может быть вашим нативным языком общения. Я делаю это в потоке повседневности, все остальное происходит так, между делом. Мамы сеют зерна нового видения себя и мира, пока намазывают бутерброд и провожают детей на школьный автобус. И это не какая-то формализованная терапия или процесс, в каждом случае имеющий доказательством хэппи-энд или видимый результат, но это само течение жизни и ход диалога внутри него, это способ проясняющего общения с близкими – который приходит на смену навязчшему на зубах привычному обмену репликами, который замыливает суть, усугубляет взаимное непонимание и заставляет вязнуть в надоевшей колее бытовых конфликтов. Здесь не будет решенных кейсов и историй чудесных исцелений – но я могу сказать, что благодаря нарративному подходу мне, например, удалось однажды отправить в детский сад сына, который 22 дня подряд саботировал этот поход, поднять самооценку дочери и улучшить взаимоотношения между сиблингами и мои с ними тоже. Я называю это “домашней магией”. |
Во-первых, это наш дар творения – тот самый, когда мы называем вещи новыми именами. Начиная от имени, данного плюшевому медвежонку новорожденного ребенка, до сладких прозвищ своему малышу и поиска слов для объяснения ему мира вокруг детской кроватки.
Во-вторых - это искусство задавания вопросов.
Пожалуй, мамы займут почетное второе место среди мировых чемпионов-почемучек, виртуозов тяжелой атлетики квестчининга - после своих детей, у которых всегда готов вопрос на любой ваш ответ. Но как задавать вопросы с пользой для себя и ребенка? А не только вот эти «Надел шапку?» и «Сделал уроки?» Думая о своем опыте задавания вопросов Варе и Васе, я таким образом сгруппировала свои мишени в этом процессе:
- задать более широкий контекст конкретной проблеме («Со мной никто не дружит в школе». – «А для чего вообще человеку нужны друзья, как ты думаешь?» - и дальше мы можем говорить о компетенциях, нужных, чтобы «быть другом», о том, на что можно пойти ради того, чтобы иметь счастье быть другом, где могут находиться друзья и так далее)
- показать пространство выбора и возможность стать автором своей жизни, а не оставаться жертвой давящих обстоятельств («Он опять на меня накричал и хлопнул дверью! Я хочу его убить! Что мне делать?!!» - «Как ты думаешь, а чего он на самом деле хотел?» - «Наверное, он хотел моего внимания…» - «И что произойдет, если ты ему дашь немного своего внимания?» - выходим на подлинные потребности, рассказываем об эмоциональном интеллекте и изучаем новые копинг-стратегии)
- помочь пережить тяжелый опыт, «разблокировав» застывшую энергию через пересказ и видоизменение истории, чтобы увидеть в ней сокрытые ценности и мотивы (история про Бусы для Осени)
- расширить жизненный клуб или исключить из него членов, оказывающих негативное влияние («Ты грустишь, малыш. Это из-за того, что тебе сказали в саду?» - «Это потому что я скучаю по Жульке (собака, умершая три года назад, – от авт.). Вот Жулька меня понимала…» - «А что бы Жулька прорычала тебе, если бы узнала о случившемся в садике и том, как ты сопротивлялся неудаче?» - формируем группу поддержки, которая поможет укрепить предпочитаемую идентичность)
- отыскать ресурсы («Как тебе удалось это сделать в прошлый раз? Покажи мне, где прячется твоя суперсила! В каком месте? Вот здесь, в пупочке? Нет? В пяточке?»)
- простроить мостики в предпочитаемое будущее (см. историю про Красные вансы)
- «пересобрать» свою идентичность (см. историю про Белую Ворону)
Наши способы формировать новую психическую реальность для человека в нарративном подходе называются картами – пересочинения, экстернализации и ремемберинга, и я хочу провести вас с собой по нескольким таким путешествиям в беседах с Варей и Васей, рассказав несколько запомнившихся мне историй.
Варвара жаловалась на то, что все в классе обсуждают какую-то компьютерную игру, а она ничего не знает о ней и вынуждена смеяться вместе со всеми, не понимая природы смеха – просто чтобы быть похожей на всех.
Варвара: Да, это отнимает очень много сил - пытаться не выглядеть белой вороной.
Я: Но при этом ворона – твое тотемное животное, ты ассоциируешь себя с ней… Так ты какая ворона в итоге? Белая или черная?
Варя очень удивляется такому повороту и вовлеченно задумывается.
Я: Давай подумаем. Мне кажется, белой вороной невозможно быть вне стаи других ворон. Что ворона выглядит белой - на черном, например, фоне.
Варвара: Да, пожалуй. И тогда цвет вороны зависит от того, какой фон, то есть люди рядом. И можно быть там белой, там серой, там вообще розовой…
Я: Ага. А можно быть белой вороной не со знаком минус, а со знаком плюс?
Варвара: Да, ведь все зависит от фона! И где-то быть белой наоборот значит быть своей, где-то быть белой может быть выгодно! И значит, лучше не стараться быть как все, а наоборот - быть собой и выбирать фон…
Я: Круто звучит. А можно посмотреть на этот фон – как на чистый лист? И может ли тогда ворона добавлять туда свои краски?
Варвара: Да, точно! И рисовать свою картину!
Я: Да, я думаю, что фон это важно, картина без фона невозможна. Как и без рамки. Но… картину-то делают не они, как ты считаешь?
Варвара: Да, картину делает то, что на переднем плане!
Я: И как тебе это?
Варвара: Очень здорово! Мне прям полегчало! Я ворона и буду рисовать свою картину, в которой буду той вороной, которой хочу! И мне особенно понравилось, что ты не объяснила мне все, а предлагала вопросы, чтобы я сама дошла до понимания. Как будто камушки через кипящую лаву вулкана подкладывала!
Здесь мы исследовали заложенный в истории образ, рассматривая его с разных сторон и вписывая в разный контекст, таким образом позволяя взглянуть на трудную ситуацию с разных «дозорных вышек». Нам удалось создать новый нарратив о Белой Вороне как той, которая сама выбирает, какой быть, и больше не стыдится, – нарратив, который будет поддерживать предпочитаемую идентичность.
На занятии в геошколе Варваре дали задание: собери в рюкзак только 3 вещи, которые понадобятся на необитаемом острове. Это оказались книга “Коты-воители”, перочинный ножик и плюшевый единорог. Мне показалось это “говорящими деталями”, и я решила порассправшивать поподробнее – не зная заранее, на какую актуальную проблему с самооценкой выведет эта беседа.
Варвара: Я прямо вижу, как мне 18 лет и я выхожу из дома и иду, и мне хорошо. Я даже вижу, во что одета!
Я: Ого. Во что же?
Варвара: На мне джинсы и красные вансы!
Я: Красные вансы?
Варвара: Ну да, такие высокие кеды. Знаешь?
Я: Нет. Это модная штука какая-то? Красивые?
Варвара: Да, это… символ женственности такой.
Я: А где ты их видела? Вернее, на ком?
Варвара: В школе их носит Виолетта.
Я: Та, которая из старших классов и приходит с тобой пообщаться?
Варвара. Да, она очень красивая, но я боюсь, что когда вырасту, такой не буду.
Я: Любопытно, что сказала бы Виолетта, если бы увидела, как ты выходишь из дома со своим рюкзаком? Тебе 18, и ты в красных вансах…
Варвара: Она бы меня не узнала!
Я: Вот как?
Варвара: Да! Я была бы совсем другая! Добрее, спокойнее, красивее. А не как сейчас.
Я: Как тебе кажется, а сейчас есть в тебе уже что-то, что может прорасти в будущем, чтобы ты могла там быть той, кем хочешь?
Варвара: Нет. Совсем. На самом деле я никогда не буду девушкой в красных вансах.
Я: Я подумала – может, твой рюкзак сможет помочь нам узнать что-то о том, что у тебя уже есть? Смотри, ты положила в него единорога…
Варвара: Да, я его очень люблю.
Я: Это про твою нежность, способность любить. А перочинный нож для чего?
Варвара: Это чтобы мочь выжить – сделать костер, добыть пищу, построить шалаш.
Я: То есть ты подготовлена для того, чтобы справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями. А книга?
Варвара: “Коты-воители” – мои единственные настоящие друзья.
Я: А как тебе кажется, девочка, которая умеет любить, чувствует себя готовой к испытаниям и у которой есть настоящие друзья – какие у нее шансы, выйдя с этим рюкзачком за порог, однажды прийти к цели и увидеть в зеркале девушку в красных вансах? Годам эдак к 18.
Варвара: А вообще-то хорошие!
Будущее вызывает у нас тревогу (тогда как прошлое – сожаления). Тревога выплескивается из той зачастую огромной пропасти между сегодня и недоступным пониманию завтра. Из непредставимого расстояния между мечтой и тем, кто кажется реальностью. В этой беседе мы сокращаем дистанции, строим леса, насыщаем описание будущего и находим уже имеющиеся ресурсы для преодоления пугающей пропасти. Метафора путешествия (здесь она в совсем редуцированном виде) открывает огромные возможности для исследования запыленных уголков сознания и разведывания сокрытых пещер нашего “Я”. А нашим детям кажется – мы просто болтаем о новых кедах. Нет никакой назидательности или манипулятивных уверений “Все будет хорошо”. Мы помогаем новому знанию самому прорасти изнутри.
Вася пока не умеет справляться с сильными эмоциями, он – маленький вулкан, извергающийся по несколько раз в день. Он сам печалится эффекту разрушений, но в момент аффекта ничего не может поделать со своими реакциями. Однажды, стоя посреди разрушений его комнаты, я решила поинтересоваться:
Вася (хватается за мою версию): Нет, это дурденчики!
Я: Кто они?! Это те, кто хотят всего дурного?
Вася: Да.
Я: А чего именно?
Вася: Разорвать вас на части. Сломать велосипед. Выкинуть все картины. Вырвать тебе рот.
Я: Им не нравится, когда я говорю какие-то вещи, делаю замечания, да? И когда у тебя что-то не получается? И поэтому они толкают тебя на все эти поступки?
Вася: Да!
Понятно. Послушай, одному с такой оравой разрушителей будет сложно. Как ты думаешь, а кто бы мог вместе с тобой им противостоять?
Вася: Не знаю!
Я: Давай подумаем. А может… это твоя команда?! Чих, Пук, Рык, Смех, Кхе-Кхе, Ко-ко, Ку-Ку и Кока-Кола?!
Вася мягчеет .
Я: Давай позовем их? И они помогут нам собрать игрушки. Так тебе подходит? Так полегче будет?
Таким образом мы отделили этот естественный агрессивный модус как реакцию на фрустрацию от самого ребенка, одушевили его, создав персонажей-разрушителей, и дали возможность посмотреть на него как на задачу для решения, а не как на собственный “дефект”. Экстернализация (выведение проблемы наружу – можно даже сказать на чистую воду)) в данном случае призвана помочь расстаться с ощущением беспомощности, которое вызывает затопление эмоциями, и начать осваивать новые тактики в задачах повседневности.
У Васи есть любимая плюшевая игрушка, котенок Рыжик. Рыжик во многом разделяет судьбу хозяина. Прошлым летом он умудрился сначала потеряться в музее – пришлось искать его по объявлениям, несколько дней он ночевал один с музейной женщиной и потом с другим сопровождающим ехал домой в чужой машине. Тем же летом Рыжик вылетел в открытое окно прямо из Васиных рук, когда мы мчались по трассе – чудом на ней не оказалось других машин, но улетел он далеко и сильно, папа его еле спас. И наконец на новый год наш Рыжик совсем отличился: пока Вася катался с горки, он утонул в сугробе! И нашли мы его только два месяца спустя, весной! Полинявшего, замерзшего, но радостного, что наконец-то он снова вместе с хозяином.
Я рассказываю Васе эту историю, а он очень внимательно ее слушает, прижимая Рыжика к груди. И наконец я дохожу до морали басни: “Вот такой у нас Рыжик – тоже избитый, и потерявшийся, и столько всего переживший! И такой сильный и смелый. Со всем справившийся! Вася, мне даже удивительно, насколько вы похожи! Ты ведь тоже справился! Мне кажется, Рыжик все-все про твои раны понимает, потому что у него они тоже есть. И наверняка жалеет тебя. Вы как два раненых боевых товарища. Попавшие в беду, но целые. И вместе. Я думаю, такой особенный котенок может быть только у особенного мальчика”.
Эта сказка на ночь, от которой я чувствую, как обмякает Васино часто напряженное тело, - способ проговорить, пережить травматические события прошлого, опосредованно пересказав их на судьбе плюшевого котенка. Ремемберинг – техника восстановления участия, добавления в психическую реальность голоса, который будет поддерживать помогающий нарратив. В данном случае это был Рыжик, который не только в чем-то сыграл роль Васи, дав перепрожить тяжелый опыт, но и поделился своим, а вместе они создали уже небольшое сообщество, и теперь на “раненость” стало возможным взглянуть не только как на тревожащую исключительность, но и на почву для прорастания глубинных связей и ресурс.
***
| Нарративная практика как любой психотерапевтический подход – это философия и инструменты. Но я думаю, что уж домашняя магия точно доступна любому родителю – и без всякого диплома. Для этого нужно совсем немного: спуститься на уровень ребенка, чтобы посмотреть на мир его глазами; очень внимательно его слушать, чтобы была возможность услышать его ушами; и дальше – вместе творить, доверяя богам сторителлинга проблемы, тревоги и сложные вопросы, которые будут разрешаться по законам придуманного вами жанра. Поверьте, требуется совсем немногое!.. Нашим детям требуемся мы – целиком. Пожалуй, для начала этого точно достаточно. Полина Иванушкина |